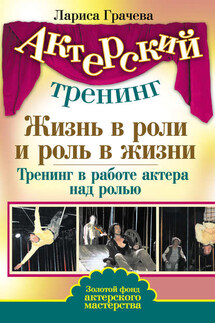Юрий Любимов. Режиссерский метод - страница 6
Шен Те и водонос Ванг, на первый взгляд, были более свободны, чем остальные. Но их свобода оказывалась свободой мечущихся в пустом пространстве неприкаянных людей, тщетно взывающих к залу. Они выглядели такими непоправимо одинокими и беззащитными, что бесполезным казалось даже искать причины этого. Раздвоение Шен Те не помогало ей. А для зрителя оно становилось частью сквозного на протяжении спектакля мотива подмены, двойничества, соскальзывания, превращения одного в другое, оборотничества. Мотив проявился и в постоянных мерцаниях, взаимопереходах актера и персонажа, трагического и комического, грубого и возвышенного, в постоянном обнаружении того, что одно и то же – не одно и то же (скажем, пластика, например, танец, обнаруживает свободу актера и несвободу персонажей) и т. д.
Мы говорили пока о пространстве, в котором действовали персонажи. Но в спектакле возникало и другое пространство, в нем действовали актеры. Эти два пространства то сменяли друг друга, то сосуществовали, взаимодействуя так непредсказуемо, сложно, прихотливо, свободно и легко, как это обычно бывает в воображении и фантазиях. Спектакль и воплощал мир режиссерского воображения. В нем нашли место и сфера искусства, и непосредственно выраженный режиссерский взгляд на него, и видение режиссером реальной действительности. Причем речь шла не только о социуме. Организация сценического пространства, скорее, представляла особенности восприятия режиссером отношений человека с мирозданием, и восприятия трагического.
Может быть, развязкой без катарсиса стал танец Шен Те. Одинокая хрупкая женская фигурка в фате. Казалось – одна в огромном бесконечном, куда ни брось взгляд, пространстве. Лишь несколько па. Потерянно озираясь, медленно повернулась вокруг себя под бесстрастный песенный аккомпанемент музыкантов-ведущих.
И возникала одна из самых пронзительных театральных страниц о напрасной женственности, об одиночестве.
Лишь продолжением этой развязки служило все, что происходило потом. В том числе рвущееся к надежде, но полное безнадежного отчаяния финальное высказывание труппы:
Автор постановки явно не разделял брехтовского социального оптимизма.
Искусство как возможность гармонии в мире, творчество как модель свободы
Спектакль вобрал сочиненный режиссером мотив театра. Но провозглашая едва ли не всемогущество искусства, взмывая к сферам вечного и высокого, представляя искусство как возможность гармонии в мире и творчество как модель свободы, театр отнюдь не проповедовал уход от действительности и не предлагал искусство в качестве панацеи.
Предложенные режиссером высокие критерии, в свете которых предстали все «обитатели Сезуана», обнаруживали глубокую гуманистичность его мироощущения. Ведь критерии эти он искал в художнике-творце – одном из высших проявлений человеческого потенциала. Одновременно режиссер насытил спектакль иронией, в том числе – по отношению к искусству, в частности – к собственному театру.
Сегодня видно, что в этом глубоком и ярком первом высказывании режиссера содержался и своеобразный генетический код богатого, сложного, полного трагических коллизий художественного мира, который мощно развернулся во всей совокупности таганковских спектаклей