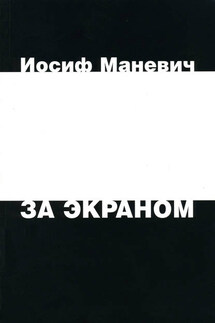За экраном - страница 26
Группу Переверзева торпедировали одновременно РАПП, формалисты и академисты различных толков. Одни обвиняли ее в вульгарном социологизме, другие – в недооценке роли идеологии в искусстве, третьи – представители историко-биографического метода – в недооценке личности писателя, его биографии, четвертые – в отклонении от плехановского учения.
Сегодня мне хотелось бы хоть в нескольких словах обрисовать Валериана Федоровича Переверзева, имя которого ныне – пустой звук, и мало кто даже из литературоведов знает что-либо о нем, кроме слова «переверзевщина», встречающегося в книгах, посвященных литературной борьбе 20-х годов. Между тем Валериан Федорович Переверзев являл собою образец истинного ученого, гражданского и личного мужества, глубокого ума, скромности и принципиальности.
Лишь немногие годы своей долгой жизни он провел на свободе, большую же часть сознательной жизни – в царской тюрьме и ссылке, а затем, с тридцать восьмого года, в лагерях и поселениях, и лишь с пятьдесят шестого года – полуслепой – на свободе, всегда в очень стесненных материальных условиях, на грани бедности.
Впервые я увидел его в аудитории бывшего Психологического института, находящегося во дворе нового здания университета, где мы слушали его лекции о русской литературе XIX века. На кафедру поднялся среднего роста мужчина, крепкого сложения, с первыми признаками седины, ему было лет сорок пять. Его смуглое лицо было суровым и вместе с тем добрым, глаза серые, один из них чуть-чуть косил. Говорил он негромко, лекции читал безо всякой аффектации, с легким юмором, но слова его падали весомо, постепенно включая тебя в круг его мыслей, покоряя силой логики, продуманностью и новизной. Это было новое слово – новое, а потому увлекательное. Оно ниспровергало старое, по-новому освещало почти все проблемы литературоведения.
Я пропустил первые лекции и попал на лекцию о Лермонтове – меня сразу поразила необычная и образная трактовка его творчества. Конечно, как потом я увидел, она была несколько односторонней, неполной, может, даже узкой и предвзятой, но она давала ключ тому, кто хотел проникнуть в самую сущность лермонтовского гения – его взглядов, его образной мысли. Именно после этой лекции – в общем-то не являющейся главной для понимания взглядов Валериана Федоровича – я прочел его книги о Гоголе и Достоевском, и они покорили меня. Если в четырнадцать лет я прочел Плеханова «К вопросу монистического взгляда на историю» и эта книга стала для меня «евангелием» в понимании исторического процесса, то книги и лекции Переверзева стали для меня источником, к которому я приник, желая постигнуть сущность творческого воплощения истории и жизни в литературе.
После лекции мы выходили за Переверзевым толпой, и вопросы звучали уже в раздевалке, где он надевал шубу и бобровую шапку – единственное, что приближало его к традиционной наружности профессора.
Переверзев жил недалеко от университета, на углу улицы Грановского и Воздвиженки, рядом с Военторгом, и кто-нибудь из нас зачастую провожал его, по дороге пытаясь решить «проклятые вопросы», одолевавшие многих, ознакомившихся с его книгами. Дома у него я был два раза и по своей застенчивости боялся засиживаться. Квартира была коммунальная, он занимал два громадных зала метров по сорок каждый, обстановка была скудной, разночинской.
Сейчас ни к чему, да и вряд ли я смогу подробно и стройно изложить систему Переверзева, для этого лучше обратиться к его книге и статьям его учеников. Я могу говорить лишь о том, что стало частью моего личного опыта и моего вкуса, моею собственной способностью читать и анализировать литературу.