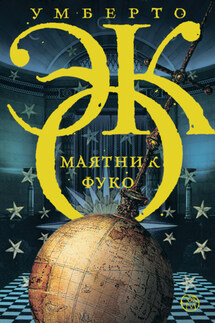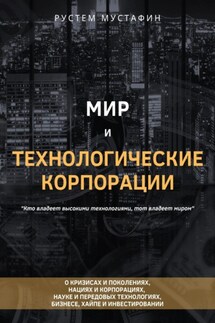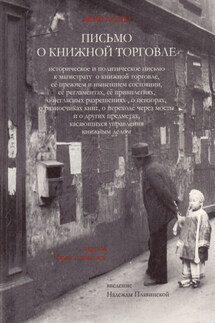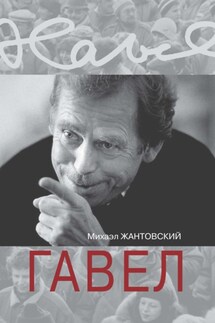Заклятие сатаны. Хроники текучего общества - страница 16
Ни отцы, ни дети вовсе не отвергают прекрасное напрочь, не выбирают лишь то, что в прежние века считалось чудовищным. Такое было разве что с футуристами, когда они, шокируя обывателей, призывали: «Не бойтесь уродства в литературе», а Палаццески (в «Противоболи» 1913 года) предлагал учить детей здоровому отношению к уродству, давая им в качестве обучающих игрушек «кукол, изображающих горбунов, слепцов, больных гангреной, проказой и сифилисом; пусть эти механические куклы плачут, кричат, стенают; пусть страдают от эпилепсии, чумы, холеры, ран, геморроя, триппера, безумия; пусть теряют сознание, хрипят, умирают»[72]. Просто сейчас люди в одних случаях наслаждаются прекрасным (в его классическом виде) и в состоянии распознать красивого ребенка, красивый пейзаж или красивую греческую статую, а в других – получают удовольствие от того, что еще вчера воспринималось как нестерпимо уродливое.
Более того, иногда уродство избирается моделью для новой красоты, как это случилось с «теорией» киборгов. И если в первых романах Гибсона (на сей раз Уильяма[73] – очевидно, что nomina sunt numina[74]) персонаж, у которого часть органов заменили механическими или электронными устройствами, мог еще восприниматься как жутковатое пророчество, то нынче некоторые радикальные феминистки предлагают преодолеть различия между полами, создав нейтральные (посторганические и «трансчеловеческие») тела, и Донна Харауэй[75] выступает с лозунгом «я скорее буду киборгом, чем богиней».
По мнению некоторых, это означает, что в постмодернистском мире совершенно размылась разделительная грань между прекрасным и уродливым. Куда там ведьмам из «Макбета» с их «Зло есть добро, добро есть зло». Оба понятия попросту слились воедино, утратив всякое своеобразие.
Но так ли это? А вдруг некоторые закидоны людей искусства и молодежи лишь маргинальные явления и те, кто с ними носится, составляют меньшинство по сравнению со всем населением земного шара? По телевизору мы видим умирающих от голода детей, похожих на скелетики с распухшими животами, слышим про изнасилованных солдатами женщин, узнаем, что кого-то подвергли пыткам, а с другой стороны, перед глазами без конца всплывают не такие уж давние воспоминания о других живых скелетах, обреченных на смерть в газовой камере. Мы видим тела, которые буквально вчера разорвало на куски при взрыве небоскреба или падении самолета, и живем в страхе, что завтра такое может случиться и с нами. Каждый прекрасно чувствует, что все это ужасно и уродливо, и никакое понимание относительности эстетических категорий не может убедить нас переживать эти картины как объект наслаждения.
А раз так, то, возможно, киборги, Нечто из иного мира, фильмы-«мочилово» и фильмы-катастрофы лишь поверхностные проявления, раздутые массмедиа, отчаянная попытка заклясть куда более страшное и глубокое уродство, осаждающее нас со всех сторон, проигнорировать его, сделать вид, что это все понарошку.
2006
Тринадцать лет, прожитых зря
Позавчера бравший интервью журналист спросил меня (многие об этом спрашивают), какая из прочитанных книг больше всего на меня повлияла. Если бы за всю мою жизнь нашлась всего одна книга, которая бы однозначно повлияла на меня больше всех остальных, я был бы просто идиотом – как и многие из тех, кто отвечает на этот вопрос. Есть книги, сыгравшие решающую роль в мои двадцать лет, и другие книги, определившие меня в тридцать, и я с нетерпением жду книгу, которая потрясет меня в сто лет. Еще один вопрос, на который невозможно ответить: «Кто преподал вам самый важный урок?» Я всякий раз теряюсь, потому что (если только не сказать «папа с мамой») на каждом витке моего существования кто-нибудь чему-нибудь меня да учил. Это могли быть люди из моего окружения или дорогие сердцу усопшие – как, например, Аристотель, Фома Аквинский, Локк или Пирс.