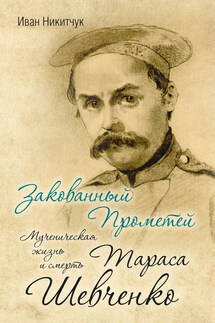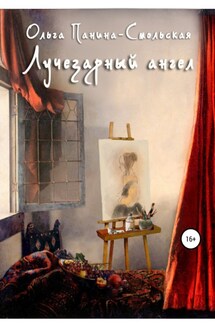Закованный Прометей. Мученическая жизнь и смерть Тараса Шевченко - страница 21
Пан Энгельгардт решился на второе и не откладывать с отъездом. Выехал порожняком, без имущества и без челяди.
Тарас обрадовался, что пан не взял его с собой. Он ходил, как пьяный, очарованный своей настоящей любовью. В течение недели он думал только, как вырвется в воскресенье в костел и увидит Дуню, и она расскажет ему новости из своей немудренной жизни, и из жизни всего предместья, и, может быть, принесет снова на кусочке бумаги эти такие необычные призывы, что переворачивают всю душу.
Но в воскресенье приказали всей челяди не отлучаться никуда из дома.
– Почему? – спросил Тарас у своего земляка Ивана Нечипоренко.
Иван меланхолически почесал затылок.
– А кто его знает! Не нашего ума дело разбираться. Боятся, чтоб с ляхами не снюхались, но я не знаю, и ты, парень, не суй лучше носа, чтоб на конюшне не оказаться.
А Тарасу именно хотелось «сунуть носа» – узнать, что делается там, на улице, на вольном воздухе. Но никого из челяди никуда не выпускали.
Как же пережить такую долгую, нудную неделю без Дуни, без касания ее маленькой, но такой энергичной, работящей ручки, без ее улыбки, без подвижных тонких бровей. Эта неделю тянулась, как год: среда, четверг, пятница… И вдруг получили из Петербурга приказ пана: всей челяди, и Тарасу в тому числе, отправляться в Петербург.
Как будто сердце раскололось пополам!..
Увидеть, быстрее увидеть Дуню, хотя бы слово от нее услышать, попросить написать… Для чего?..
Безнадежно опустил голову Тарас. Он все же выскользнул, побежал к Остробрамской богоматери и в другие церкви, и православные, католические, где виделся с Дуней, но ее нигде не было. Где она жила, он не знал, и ему стало одинаково – увидит он ее или не увидит. Для чего?
Начиналась зима. Дорога была неблизкой, нелегкой… Ударили морозы. Медленно двигался обоз с панским добром.
Согнувшись, потирая руки, иногда подпрыгивая, чтоб согреться, шли за возами крепостные. У Тараса оторвалась подошва у старенького сапога, и, чтоб не отморозить ноги, он переобувал сапог с левой наги на правую, с правой на левую. Шел замерзшим, голодным, насупив брови. Восемьсот верст казачок Тарас проделал пешком в мороз и вьюгу по дорогам, занесенным снегом.
Ползет мрачный обоз, и Тарасу кажется, что это ползет его жизнь, его молодость, нищая, несчастная, всеми униженная. И почудилось ему, что был то всего лишь сон с чернобровой тоненькой девочкой в костеле святой Анны… И исчезла она, как сон, чтобы уже никогда не появиться ему на его тяжком пути…
И вот Шевченко впервые увидел город на берегах Невы…
Снова потянулись для Тараса такие же унылые и тоскливые, как и в Вильно, дни. Одна отрада была у Тараса: рисование. Огрызок карандаша был для крепостного мальчишки роскошью чрезвычайной. Да и бумага тоже. Рисовал угольками на чем попало. Судьба одарила его «талантом художника». Как по волшебству под его рукой возникали картинки с милыми сердцу видами родной Украины, ее деревеньками, левадами, маленькими вьющимися речушками… А то появлялись лица повстречавшихся ему людей.
Набравшись смелости, Тарас попросил своего помещика отпустить его учиться художеству. Не сразу, но на этот раз сдался Энгельгардт, разрешил! Шевченко был отдан в обучение в мастерскую живописца Ширяева…
В свободное время ученики Ширяева располагались у себя на чердаке. Им, честно говоря, было совершенно безразлично, чердак это или какое-либо другое помещение. Главное, чтобы было где протянуть ноги и быстрее уснуть. Это было их единственное свободное время.