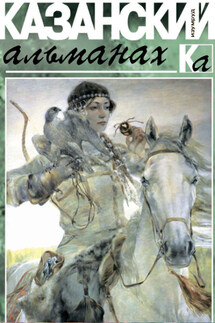Запах анисовых яблок - страница 70
Шаги лёгкие, весело пошлёпывающие…
– Иду, иду! – узнаёт меня мама по короткому, двойному, звонку.
Но на этот раз в глубине души я ждал и надеялся услышать другие шаги – частые, бегущие, будто заколачивающие голыми пятками гвозди в пол.
Перешагиваю порог:
– Где?
Я не говорю – кто. Мама не спрашивает. Понятно. Она суетливо включает свет в прихожей, принимает и потрошит больничную авоську:
– Мать забрала её. Вчера. На машине…
– На такси? – спрашиваю, хотя какая разница.
Мама виновато пожимает плечами:
– Не разглядела, сынок. Знаешь же, какое у меня зрение. Слава богу, тебя вижу сейчас, а в окно вот и не различу уж, хоть и глаз не отрываю.
Что верно, то верно, глаз от окна она не отрывает, всю жизнь меня ждёт: пацана с катка, солдата из армии, поэта с банкета…
Я стыжусь: по-человечески не поздоровался с матерью. Приподнято восклицаю:
– Пироги испекла, да? За версту слышно!
– Внучка не попробует вот! – вздыхает мама.
Я не отвечаю, молчу. Что я могу ответить? И не расспрашиваю – как уехала дочь, плакала ли, обрадовалась ли, вспоминала ли обо мне, что оставила на память – какие фантики, какие рисунки… Через минуту-другую мама сама всё подробно расскажет и покажет, а пока суетится, что куда моё пристроить не знает, волосы свои белоснежные поправляет, точно к ней жених явился.
– Проходи, проходи, с отцом поздоровайся.
Ритуал обыденный. Время обеденное.
Мама быстро накрывает на стол, замечая непременно, как в детстве:
– Помыл руки?
Впервые с незапамятных времён моей болезни – имею в виду не только гиббус – чувствую зверский аппетит, наворачиваю – за ушами трещит.
Отец без интереса озирает меня, что-то спрашивает, я что-то отвечаю. Мама садится за стол как всегда последней, нет, она так и не садится – хозяйка: то молоко вскипит, то ещё что… Она у меня непоседа. Я не видел её, например, вот так просто, ничего не делая, смотрящей телевизор. Если она включает телевизор, то и утюг заодно, или вязание возьмёт, или штопку (теперь уж, правда, не вяжет – зрение)…
Но вот наконец присела и между прочим:
– У вас там умер кто-то на работе.
– Кто? – пирог застревает в горле.
Она просит меня не волноваться, сообщает, что не совсем на работе, что приходил Грач…
– Почему он?
– Не знаю. Записку вот оставил и туда убежал, потому и встретить тебя сегодня не смог. – Она достаёт из серванта бережно сложенную записку. – Тоже, говорит, поэтом был, только непризнанным.
Всё ясно. Записку можно не читать. Но я читаю. Спокойно читаю. Конечно, это он, Коленвал. Выпил в одиночестве, прилёг, закурил, а далее что случилось – то ли пожар, то ли из-под вскипевшего чайника газ пошёл, хотя какой в коленваловской халупе газ? Короче, выпил, закурил, задохнулся. Большего из записки не выудить. Всё прояснится на месте. Но что изменится? Смерть давно витала над Коленвалом и зазывала в свои объятия. Однажды у издательства его сбила милицейская машина. Трезвого. Потому-то и угодил под колёса, острили умники. Больше года по больницам на костылях путешествовал. Потом он как-то загадочно выпал на ходу из электрички. И как-то остался жив. А психушка, а многочисленные «ласточкины гнёзда», ЛТП, КПЗ – это ведь всё тоже хождение по острию… Он всю жизнь висел на тоненькой ниточке хрупкой ёлочной игрушкой и ждал, ждал, ждал, когда же эту ниточку наконец перережут.
– Он признанный, мама, – говорю я, откладывая записку. – Признанный кем надо.