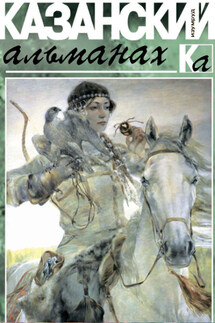Запах анисовых яблок - страница 71
Обжигаю горло горячим чаем:
– Пойду.
– За день до этого умер его кот Цезарь, – говорит Грач.
Возвращаемся с кладбища. Бредём вдвоём закоулками, забаррикадированными горбатыми сугробами. Зима тёплая, снежная. Народу кругом полно, в основном дети, молодёжь. Катаются на санках, бегают на лыжах… Старики вымерли. Или сидят дома, пережидают неурочное для всяческих передвижений время года. Нет, бредёт один навстречу. Вдрызг пьяный. Хоть храм и близко, да ходить склизко, а кабак далёконько, да хожу потихоньку. Ступил на зализанную ребячьими валенками блестящую пролысину льда, шагнул – ничего, ещё шагнул – и не поскользнётся ведь, чёрт старый, не растянется, будто асфальт шершавый под башмаками. Качнуло вот в сторону, сошёл с опасной полосы. Кроличья шапчонка на затылке, взбитый белый клок волос по-суворовски ввысь, и на изрезанном морщинами, худом лице тихая, по-детски светлая улыбка. Посторонитесь, умники тверёзые и многострадальные!
В который раз спрашиваю:
– От чего он умер?
Не спрашиваю – тупо повторяю то про себя, то вслух, всё ещё не в силах поверить в случившееся.
– С перепою, – отвечает Грач. – Перебрал, вот и всё. Много ли надо при его-то мощах.
– Что-то тут нечисто… Все по-разному толкуют.
– Несуразная жизнь – несуразная смерть.
– Зачем так? Думаешь одно, говоришь другое… Есть такая штука – судьба. Слышал – нет?
– У кого она зрячая, у кого слепая, – выдаёт Грач очередной свой афоризм.
– Окулист нашёлся! Бывает, когда ты как при цугцванге: ходишь, куда тебе судьба-противница диктует, делаешь невыгодные ходы.
– Но жизнь – не шахматы.
– Шахматы, конечно, логичней, но жизнь… Вон сколько народу пришло проститься с ним, мог бы подумать? А мы: непризнанный да непризнанный.
Народа у Коленвала в последний день пребывания его бренного тела на земле нашей грешной было удивительно много. И собутыльники собрались, шантрапа разная, и люди солидные, среди них университетские преподаватели, писатели, художники, газетчики, студенты… Композиторов двух видел у гроба, тенора одного из оперного. Вот тебе и полководец без армии, то бишь поэт без своих книг! Не печатался он, что поделать, но стихи его, как лёгкие осенние листья, порхали по свету. Не раз бывало: в компании какой-нибудь доморощенный бард тронет струны гитары и затянет вдруг песню с удивительно знакомыми словами. Запоздало хлопнешь себя по лбу: так это ж коленваловские стихи!
Рукописи не горят. Стихи – тем более. Стихи ведь – не всегда – рукописи и книги.
Смерть делает человека значительнее, серьёзней. Коленвал в гробу, ей-богу, красив был и величествен. Он лежал успокоенный, избавленный от суеты, от мелочных желаний, обид, страхов, свободный от всего того, чем мы все вокруг него были отягощены. Мне даже показалось, что на лице его белом появилось выражение гордости, превосходства над нами: он уже постиг Великую Тайну, которую мы ещё не ведаем, но с трепетом каждый по-своему ожидаем; постиг и хочет сказать будто: вот он я, истинный, мелочь пузатая, и тут я впереди вас.
Но сколько суеты, вместо того, чтобы элементарно закопать лишённое жизни тело в землю, сколько предрассудков, ложной значительности, театральности наконец! Видно, всё-таки есть нечто такое в этом моменте, что заставляет трепетать перед уже, по сути дела, просто-напросто неодушевлённым предметом. Говорят: живых бойся. Нет! Мёртвых боимся. Вернее, смерти. На похоронах все, как один, вспоминают вдруг, что никто не вечен. Ненадолго, правда, вспоминают.