Записка на чеке. Газетно-сетевой сериал-расследование - страница 48
Его папа позвал жить в отцовский дом. А осенью они с папиной младшей сестрой поженились. А потом на всю гражданскую разлетелись по фронтам и встретились с папой снова только, когда в начале 20-х осели в Ташкенте. Тётка сменила сестру дедова брата Павлу Семёновну на поприще первой ташкентской красавицы, но дяде Мише всё это было до фонаря – ему хотелось есть, а молодая жена ничего не умела готовить, даже яичницы.
– Мишенька, говорила ему моя мама, твоя бабушка, когда он посватался, – много раз повторяла мне тётка, – одумайтесь, она никогда в жизни и чашки-то чайной не вымыла! Вы же оба умрёте с голоду. Но где там – разве Мишенька мой послушал, – при этом она целовала своего обожаемого супруга, а он её, – вот и маялся долго. Сколько раз было: поджарю котлеты – а он с работы придёт и в ведро их помойное: горелые… Ничего, всему научилась!
Я слушал и не верил – ибо лучшего кулинара я в жизни не видел. Тётя Катя умела стряпать буквально всё.
– А какой сейчас год? – щурилась она лукаво, видя такое моё удивление. – Семидесятый? Ну-ка отними восемнадцать. Вот то-то, Сашенька… Жизнь научит коврижки есть.
Тётя Катя с дядей Мишей много лет, ещё с довоенных, снимали комнату с просторной застеклённой верандой во флигеле большого дома славной узбекской семьи Ахмедовых на улице Вотинцева на Кашгарке. После землетрясения она исчезла, «залитая», как и весь этот эпицентр трагедии, рухнувший в одну минуту на рассвете 26 апреля 1966 года, новостройками, но в моё детство была живописной – главным образом, потому, что сначала сбегала, петляя, как все узбекские улочки, к арыку Чаули, а потом взбегала от него на высокий косогор и выводила на Чимкентский тракт неподалёку от Саман-базара. К ним так и нужно было добираться: доехать до места, где в 1961 году построили кинотеатр «Спутник», переименованный потом в «Казахстан» и памятный мне тем, что там мы с тётей Катей смотрели фильм «Великолепная семёрка», спуститься к Чаули, перейти его по мостику и снова взбираться наверх. А там уже два поворота – и вот этот двор с большой старой орешиной в центре, справа сарай и тандыр, где то и дело пекли невероятного вкуса лепёшки, а слева начинался огибавший двор многокомнатный густонаселённый дом, а в дальнем левом углу двора, за кустами сирени под старыми гледичиями стоял флигель Понкиных. Я очень его любил – за сумрачную прохладу комнаты, полной старинных вещей, и светлую, пронизанную солнцем веранду с огромным, до потолка фикусом. Вот вы посмеётесь, а я с тех пор люблю фикусы и всегда мечтал и мечтаю, что у меня дома тоже будет фикус, как у тёти Кати. Но у меня всё ещё нет пока дома – как не было его у папы, пока не получил вместе с нами на 68-м году жизни секцию на Чиланзаре, но так и не успел этим насладиться – счастье его длилось всего-то 15 дней. И как не было его у Понкиных, пока в 64-м они не купили, по крохам скопив деньжат («Достаток, Саша, – учил меня мой дорогой дядя Миша важной науке не тучных времён, – не от больших доходов, а от малых расходов») крохотный домик по ту сторону Энгельса, тоже в славном узбекском тупичке, позже на удивление не тронутым землетрясением.
Помню, как утром в тот день, когда нас тряхануло, мы пришли в школу, и у нас отменили занятия, и мама сказала за обедом, чтобы я ехал к тётке, узнать, как они. И я ехал после обеда по разрушенному центру Ташкента, и по всей Ленина уже стояли солдатские палатки, на перекрёстках в полевых кухнях варилась еда. И все уже знали, что в полдень в Ташкент прилетели Брежнев с Косыгиным и вместе с Рашидовым ходили по улицам, говорили с испуганными людьми, обнимали самых отчаявшихся и обсуждали, как возрождать Ташкент. Теперь вот Горбачёв рассказывает басни, что ему-де несколько дней толком не сообщали, что случилось в Чернобыле – врёт, конечно: почему-то Брежневу и Косыгину сообщили тотчас, и они, бросив всё, не позавтракавши, помчались к нам, уже самим своим присутствием в городе с первых часов нашей беды успокаивая: Родина с вами, мы справимся с этим. Разве могли мы не любить эту Родину и не презирать тех поганцев, пастернаков и даниэлей, орловых да копелевых, а позже – якиров, сахаровых и солженицыных? «Деятели культуры»… Мы даже в юности понимали, что культура существует не сама по себе, а лишь в контексте современного ей общества. А всё вне контекста – и вне культуры. Мы знали твёрдо: наша Родина никогда нас не бросит, как придушившая её подло змеюка бросила на произвол судьбы несчастный «Курск», травила своих ради глупого принципа на Дубровке и расстреливала в Беслане.

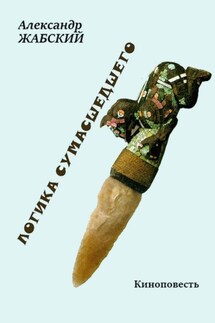

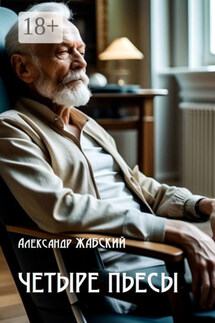

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



