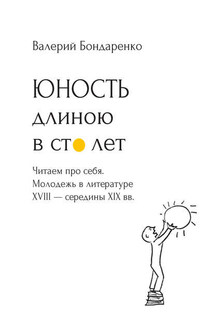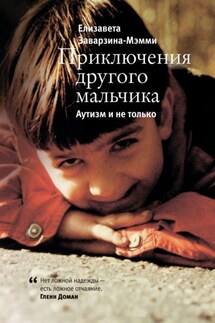Записки безумной оптимистки. Три года спустя - страница 17
Мы уставились друг на друга, потом я робко предложила:
– Может, пойдем в Дом литераторов? Он же тут совсем рядом, посидим в «нижнем» буфете!
– Отлично, – обрадовался папа, – а маме с бабушкой соврем! Скажем, что восторгались концертом!
С тех пор мы с папой очень полюбили «бывать» в Консерватории, одна беда, Аркадий Николаевич редко мог выкроить свободное время.
В нашем доме, набитом книгами, не водилось литературы криминального жанра. Мама считала детективы произведениями «ниже плинтуса». Те томики, которые по недоразумению дарили дочери гости, она мгновенно отправляла в мусоропровод. Но против Конан Дойла и Эдгара По мама ничего сказать не могла, это же были признанные классики! Поэтому я выучила рассказы про Шерлока Холмса наизусть. Надо сказать, что такое отношение к детективному жанру было тогда повсеместным среди писателей, критиков и издателей. Но читатель-то хотел получить детективы страстно. Абсолютно неинтересный журнал «Звезда Востока», печатавший унылые произведения авторов из разных союзных республик, преимущественно Средней Азии, имел рекордно высокий тираж лишь по одной причине. Изредка на его страницах, в самом конце, после повестей о трудовых буднях сборщиков хлопка и рассказов об установлении советской власти в Туркмении, появлялись переводы Чейза, Агаты Кристи или Рекса Стаута.
В 1964 году папу пригласили в Федеративную Республику Германии. Помните, тогда существовали две Германии, социалистическая и капиталистическая: ГДР и ФРГ? Советских писателей традиционно выпускали в социалистическом лагере, но вот папину книгу отчего-то решили издать в мире капитализма, и отец поехал на встречу с издателем.
Нынешним подросткам, спокойно разъезжающим по всему миру, не понять нас, тех, живших за железным занавесом. Я очень хорошо говорила по-немецки. Во-первых, обучалась в школе, где этот язык считался самым важным предметом, а во-вторых, имела репетиторшу этническую немку Розу Леопольдовну, жену немецкого антифашиста, сгинувшего в сталинских лагерях. Она ходила ко мне каждый день, с четырех лет. «Танте Роза»[3] не вдалбливала ребенку в голову нудные грамматические правила, не заставляла переводить газеты и учить гигантские куски из Гейне и Гете. Нет, мы проводили время в свое удовольствие: играли в куклы, пили чай, варили суп, ходили вместе в магазин. Розу Леопольдовну скорее следовало назвать моей няней или, по-нынешнему, гувернанткой. Впрочем, она сама любила, когда про нее говорили: «бонна». Вряд ли кто помнит сейчас значение этого слова, та же няня, только на немецкий лад. Роза Леопольдовна очень плохо изъяснялась на русском языке, и мы болтали исключительно на немецком. Результат не замедлил сказаться: лет в шесть я тараторила по-немецки как автомат и свободно читала в оригинале сказки братьев Гримм. На память о Розе Леопольдовне у меня на всю жизнь осталось изумительное произношение, в особенности звука «ch», который многие люди, выучившие язык Гейне в московской школе, ничтоже сумняшеся произносят как «щ».
В пять лет ко мне стала ходить еще и француженка Натали. Она тоже появлялась каждый день и тоже на два часа. Через пару месяцев в моей голове смешались два языка, и я начала говорить странными предложениями, ну вроде:
– Папа, bitte…[4] – затем следовал французский глагол.
Но потом все устаканилось, разлеглось по полкам, и я больше не путалась.