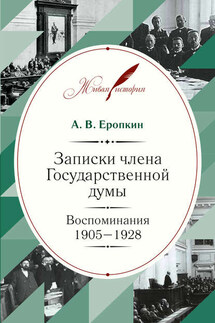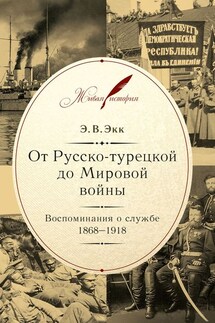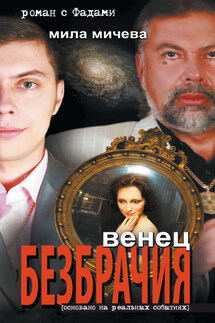Записки члена Государственной думы. Воспоминания. 1905-1928 - страница 2
Вскоре после назначения работа в «Лензото» стала основной для Еропкина, так как в IV Государственную думу он не попал. К 1912 году правительство коренным образом изменило свое отношение к октябристам. Местная администрация всячески стремилась подорвать шансы представителей центра и левого крыла партии на избрание в Думу нового созыва. Основным ресурсом для этого служило мобилизованное духовенство, строго подчинявшееся приказаниям церковного начальства. Именно благодаря голосам священников А. В. Еропкин был забаллотирован в Думу. Причем ему не хватило одного голоса – своего собственного: ведь Еропкин голосовал за всех кандидатов. Однако во время выборов процедура была нарушена, и их результаты удалось опротестовать. Но и со второго раза А. В. Еропкин депутатом не стал[25].
Февральские дни 1917 года Еропкин встретил в Петрограде. Он жил в самом эпицентре событий – на углу Литейного и Невского проспектов, и революция разворачивалась на его глазах. Еропкин свидетельствовал: «Волнения начались постепенно, и умная государственная власть, конечно, могла бы их потушить. Как и всегда, вопрос в буквальном смысле о куске хлеба; хлеба в Петербурге недоставало, и в то время избалованное население не привыкло еще и не признавало никаких очередей в ожидании покупки хлеба, и оно особенно негодовало, когда эта лишняя затрата времени оканчивалась ничем, когда булочник объявлял, что хлеба больше нет. Больше всех, конечно, волновались женщины, на которых главным образом и ложилась эта нудная обязанность стоять в очередях за хлебом. Первая толпа недовольных на Невском проспекте состояла в большинстве из женщин. Демонстрации все усиливались, и толпы на Невском появлялись все чаще. Для разгона этих демонстраций прибегали к конным отрядам казаков. Но казаки вели себя миролюбиво: стоит связываться с бабой?»[26] Власть прибегала ко все большей жестокости и тем самым все более себя дискредитировала. По мнению Еропкина, переломным моментом стала стрельба в толпу с чердаков на Невском проспекте. После этого ситуация вышла из-под всякого контроля[27].
С июля 1917 года, после отставки с поста директора Ленского золотопромышленного товарищества, А. В. Еропкин остался практически без всякого заработка. Он хватался за любую работу. Так, летом 1917 года по поручению обер-прокурора Святейшего синода В. Н. Львова он начал готовить доклад о церковном хозяйстве в России. Впоследствии патриарх Тихон отказался что-либо за это платить. И лишь официальная документация, подтверждавшая заказ, добытая в свое время с большим трудом, заставила новое руководство выдать необходимую сумму. Это был последний заработок Еропкина в старой России[28].
После октября 1917 года жизнь в Петрограде становилась все труднее. Еропкин вместе с семьей был вынужден регулярно выезжать в Финляндию «поесть хлеба»[29]. Можно было поселиться в имении Кораблино, но там уже полновластно господствовали крестьяне.
Уже в эмиграции Еропкин не оставлял мысли о необходимости аграрной реформы в России. Он исходил из того, что принцип частной собственности должен быть в полной мере восстановлен. Это вынуждало поставить под сомнение факт национализации помещичьего землевладения. Но вместе с тем Еропкин признавал, что вернуть землю прежним владельцам уже не удастся. Для выхода из этого заколдованного круга он предлагал следующую финансовую операцию. Крестьяне получали в собственность захваченную землю, но в виде ипотечного кредита, который бы позволил расплатиться с помещиками. «Единственное, что различает предстоящую операцию от обычных банковских ипотечных операций – это отсутствие добровольного соглашения между сторонами, т. е. помещиками и крестьянами. Помещик уже согнан со своей земли, его право на землю уже нарушено…»