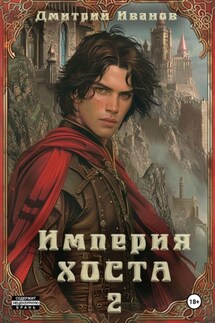Записки обреченного философа - страница 9
Год назад чуть не угодил под машину. Представил себя в реанимации. В морге. В крематории. Подумал, чего больше всего жаль. И мысль ни на чем не могла остановиться. В сущности, нечего терять. Нет ничего, что железной хваткой удерживало бы в жизни. Кроме автоматизма самой жизни, ежедневного беличьего колеса. Как у Толстого в «Исповеди»: «Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать». Сколько раз цитировал «Исповедь» студентам! Но как-то не всерьез, как будто смакуя самые эффектные места. И вот теперь, когда дело дошло до сути, голой сути, я ни черта не понимаю в этой самой «Исповеди». Почему Толстой так ужаснулся смерти, когда к жизни ничто уже не привязывало? Зачем ему понадобилась вера в бога и в бессмертие? Будда, разочаровавшись в жизни, боялся ее продолжения, а не окончания. Боялся бесконечной серии грядущих воплощений, даже самых блаженных и райских. Какие-то идиоты во времена Будды рекламировали его учение воплями: «Спасение от смерти найдено!» Тут бы возопить: «Спасение от жизни найдено!»
Ночью не спалось, и в памяти всплыло недолгое мое увлечение проблемой бессмертия, биологической его возможности. Тогда мне казалось удивительной слепотой нежелание людей понять, что это единственная проблема. Нужно все бросить и всем навалиться на эту Проблему, а уж когда обеспечим себе вечность, можно будет баловаться пустяками. Беспечность людей перед лицом неминуемой смерти казалась мне вопиющим недомыслием. Мелькала, помню, и эгоистичная мыслишка, нельзя ли все это провернуть, пока я сам не дал дуба. Растянуть оставшиеся годы с помощью умеренности, физкультуры, мудрой диеты, а там, глядишь, наука что-нибудь придумает, сначала, конечно, для немногих, и надо попасть в число этих немногих, выбиться в круг избранных, элиту бессмертных.
Но прошло несколько лет, и я уже не знал, зачем мне нужно не то что бессмертие, но и самое обычное долголетие. Зачем все тянуть и тянуть эту резину. Последние годы жил механически, в каком-то полусне. Ничего не ожидая и ни о чем не жалея. Чего же теперь-то вскинулся? Какой петух клюнул? Что мне этот год? И какая разница – год, месяц, день? Тотальная мобилизация! Свистать всех наверх! Напрягся, как на краю пропасти, нервы натянуты, сердчишко стучит прямо в ушах, умишко мечется, цитатки роятся в машинной памяти. Парад алле! Буря в стакане воды!
Нет, голубчик, здесь не отшутишься. Смерти нет дела до твоих счетов с жизнью. У нее свой счет. Последний и неотразимый. Она крушит заслоны цитат, уловок, силлогизмов. Она требует тебя всего целиком, голеньким, жалким, беспомощным. Не сумевшим толком прожить, не знающим, как умереть. Страх смерти? Нет, вызов смерти! Вызов, требующий ответа. Прямого, без обиняков. Как жил? Чем жил? Жил ли? Вот он, страшный суд, здесь, а не на небесах. И ты сам – судья и ответчик, палач и жертва.
Философствовать – значит учиться умирать. Так нам долбили Платоны, Цицероны, Монтени. Черта с два! Наоборот: умирать – значит учиться философствовать. Значит впервые начать мыслить. Впервые начать жить. Впервые осознать все, что мелькало в туманном похмелье жизни. Очнуться от многолетней спячки. От летаргии «жизни, как она есть». Как она есть! Как ее нет! И не было, кроме детства. Вот тогда жил! Жил как перед смертью – широко разинув рот, глаза, уши, душу. Умирать – значит родиться заново. Значит, начать все с нуля. Смерть – это жизнь. До нее – только существование, сонное прозябание. Смерть – последний мой шанс. Пинок Господа Бога в косную мою задницу. Может, я – счастливчик. Избранник судьбы, любимец богов. Мне дан шанс вытащить себя за ворот из болота, как Мюнхгаузену. Страх смерти, слепой инстинкт, животный порыв? Пусть так. Неважно. Важно лишь пробуждение, обновление, возрождение. Фрейд сказал бы, что я собираюсь сублимировать страх и оседлать Танатоса как Пегаса. Правильно, Фрейдюша, правильно, милый. Смейся надо мной, смейся со мной, мне так вдруг полегчало, дурачку. Надолго ли? Всё кидает из хлада в пламень и снова в стужу. Лихорадка юродивого.


![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)