Записки обреченного философа - страница 11
Ницше определял философию как инстинкт к диете. Преодоление всеядности, укрощение страстей, самоограничение, строгий выбор в жизненной трапезе – почти синонимы философского отношения к жизни. Шопенгауэр отмечал, что философия не дала ему никаких доходов, но избавила от многих трат. Философия как диета является скорее ограничением числа блюд, чем творением новых. Переоценка ценностей, о которой трубят со времен Диогена, свелась в основном к их уценке. Уже Кратет Фиванский сделал определением философии презрение ко всем привычным человеческим ценностям. «По торным тропам не ходить!» Завет-запрет Пифагора. На деле он привел к выбору узких тропинок, а не прокладыванию новых. Кто серьезно верит сегодня прорицанию Ницше: «Есть тысячи троп, которые еще никогда не пройдены, тысячи здоровых сил и скрытых островов жизни. Не исчерпаны и не открыты человек и земля человека»?
Толстой, этот титан, творческой силой бросавший вызов творцу, избирает для обновления жизни самую торную из троп – христианское самоотречение. И мучается до конца дней, – не для него тропа эта. Но ничего лучшего не видит, не находит. Его пример меня добивает, иссякает вера в изобретательность узника, загнанного в тупик жизни. Мне ли, муравью, из этого тупика выбраться? Способности моего интеллекта – чисто аналитические, в лучшем случае комбинаторные. Я не творец. Лихтенберг – то ли в шутку, то ли всерьез – утверждал, что из различных инстинктов человека можно было бы, как из шахматных фигур, скомбинировать лучшую жизнь. Я уже не верю в комбинаторику. Без обновления инстинктов не представляю обновления жизни. Но что за химера – обновление инстинктов? Сменить кожу, как змея? Переделать саму природу – свою собственную и человеческую натуру вообще? Хватит прожектов, голова разламывается.
Чего я, собственно, добиваюсь? Что мне нужно от этого года? Наверстать все упущенное? Но это просто смешно. Говорят, есть мгновения, равные вечности. И за год настоящей жизни можно отдать десятилетия. Но чего я, собственно, не добрал? Что мне наверстывать? Кого догонять? Что упущено? Упущена жизнь. Это ясно каждому умирающему. Толстовский Иван Ильич вроде бы понял, почему упущена, – не было любви к людям – христианской, всеобъемлющей, переполняющей душу. Но вытащи его врачи с того света, вытяни за ноги из черной дыры, в которую затягивала его смерть, – и он не смог бы удержать в себе это чувство любви, его остроту, пронзительность, глубину, он бы только твердил себе, как попугай (как сам Толстой, – простите, граф, обреченного): «Надо любить людей, надо любить людей, надо любить людей…»
Нет, на чудо обновления не надеюсь. Хотя и ощущаю обострение всех чувств, образов, мыслей. Но это естественная мобилизация, реакция организма на приговор. Нервный фон, общая тревожность, стресс, – как там еще это называется. Экзистенциалисты высоко ценят «пограничные ситуации» как средство пробуждения личности к «аутентичному существованию». Наплевать мне на аутентичность моего существования, на «самореализацию» моего бесценного «Я» – грош ему цена! Но что-то постичь, осознать за этот год я все же хочу. И знаю, что это мой единственный шанс что-то понять в жизни, – этого шанса у меня не было бы, если б не приговор. Приговор к смерти – приговор к жизни. К постижению жизни. Смерть не научит меня жизни – настоящей жизни, которой не научила сама жизнь. Но должна научить меня мыслить. Научить философа философствовать. Она уже отмела все, что мешало мне думать о жизни. У меня не осталось других занятий. Необычайное чувство свободы – впервые в жизни. Меня освободили, – связали по рукам и ногам, бросили в одиночку, объявив, что смертный приговор будет приведен в исполнение через год и обжалованию не подлежит. И тем самым освободили. Освободили от суеты, от псевдопроблем, от меня самого.
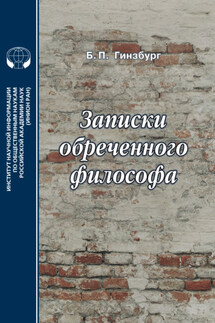

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



