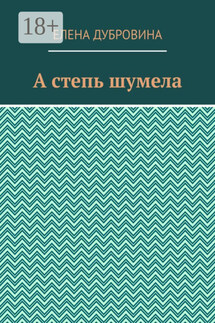Здравствуй, племя младое, незнакомое! - страница 12
Дневник я осилил с трудом: автор, мичман Илья Ильич Кульнев, правнучатый племянник героя войны 1812 года генерала Якова Петровича Кульнева, не обладал ни особым литературным даром, ни разборчивым почерком (что, впрочем, в условиях боевого плавания понятно). Да и сама история была тягостной, как и история антиельцинского сопротивления и чеченской войны.
Собрали зимой 1905 года на Балтике тихоходные «музейные образцы»: броненосец «Император Николай I», три броненосца береговой обороны – «Генерал-адмирал Апраксин», «Адмирал Сенявин», «Адмирал Ушаков» и крейсер 1-го ранга «Владимир Мономах» – и отправили под командованием контрадмирала Небогатова на помощь вышедшей раньше эскадре Рожественского. Вовсю бушевала революция, с войны приходили только дурные вести, портовые рабочие разбрасывали на военных судах прокламации: «Убивайте офицеров, топите свои суда, зачем вы идете на верную смерть?», которым матросы порой следовали буквально: например, убили одного молодого мичмана за то, что он хотел водворить тишину. Офицеры чувствовали себя в Либаве, как на вражеской земле, горели желанием скорее выйти в море…
Плавание было очень тяжелым, питались экипажи скверно: либавские купцы снабдили моряков консервами, которые нельзя было есть, а свежего мяса не закупали, потому что на небогатовских судах, в отличие от эскадры Рожественского, не было ледников-рефрижераторов. Грузились углем в иностранных портах в авральном режиме (нигде не разрешали стоять больше суток), отчего корабли приобрели необыкновенно грязный вид. Тем не менее была вписана славная страница в историю военной навигации: на обветшавших судах небогатовцы совершили переход в 16 тысяч морских миль, останавливаясь лишь для заправки углем. Во вьетнамскую бухту Камрань (Камаранг), где 2-я Балтийская эскадра соединилась с 1-й, Небогатов привел все суда, вышедшие с ним из Кронштадта и Либавы, включая самые тихоходные. Подобное достижение считалось тогда неслыханным даже для новых скоростных броненосцев, работавших на угле. В бухте Камрань (которая после 1975 года стала советской военно-морской базой, а теперь заросла джунглями) русским судам тоже стоять долго не разрешили.
Двумя кильватерными колоннами русская объединенная эскадра направилась к Цусимскому проливу. Дневник заканчивался 14 мая 1905 года, около 14 часов, то есть буквально перед первым залпом Цусимского сражения. Саму битву Кульнев описывать не стал, нарисовал лишь схему движения наших и японских судов.
Читать записки Кульнева было не только тяжело, но и больно: предчувствие неизбежной беды сменялось в них отчаянной надеждой на победу – сродни той надежде, с которой мы жили до 4 октября 93-го… «Как-то мне вздохнулось: может быть, дойдем, поддержим 2-ю эскадру, может быть, и не потопят нас, мы будем воевать и победим японский флот…»
Сам мичман, как рассказал мне Вася, в Цусимской трагедии выжил, в отличие от своего старшего брата Николая. После войны Илья Кульнев увлекся морской авиацией, стал одним из первых в России летчиков-конструкторов. В мае 1915 года он погиб в авиакатастрофе под Ревелем.[1]
Честно говоря, я не очень понимал, зачем Вася дал мне этот дневник: то ли для общего развития, то ли еще для чего, и почему он, собственно, так радовался ему – ничего, что подтверждало бы его выводы о Рожественском, у Кульнева не было – наоборот, на последних страницах он выражал недоумение его действиями.