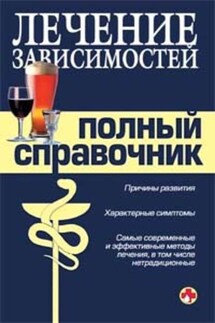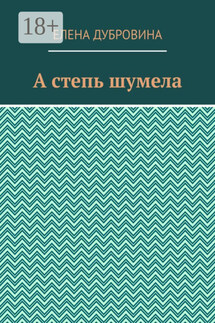Здравствуй, племя младое, незнакомое! - страница 13
В осторожной форме я спросил это у Васи (после того как он стал консьержем, самолюбие у него обострилось).
Вася с сожалением посмотрел на меня.
– А чертеж?
– Что – чертеж?
– Ну ты что, не заметил, что на схеме правая кильватерная колонна выдвинута вперед левой на половину своей длины? Теперь наконец стала понятна загадочная фраза в воспоминаниях английского военного наблюдателя на японских судах капитана Пэкинхема, что по сравнению с судами правой колонны суда левой казались «пренебрежимо малыми». А между тем головной корабль левой колонны «Ослябя» даже превосходил длиной головного правой «Суворова» на десять метров! Он потому показался Пэкинхему «пренебрежимо малым», что был гораздо дальше от него, чем «Суворов»!
Мне стало жалко Васю. Все-таки я привык, что он мыслил хотя и безответственно, но широко, а тут он, как трудолюбивый бездарь, закопался в куче малозначительных деталей: десять метров каких-то, правая колонна обогнала левую на половину длины…
– Вась, ты меня извини, но что это прибавляет к главной мысли твоей работы?
Вася смотрел на меня во все глаза.
– Как что? Я же тебе столько рассказывал про Цусиму! Старик, это же другое построение, чем считали прежде, а у новых кораблей правого отряда была выше скорость!
Я начал злиться.
– Так это помогло нам проиграть баталию или несколько задержало разгром?
– Это было гениально, – сказал Вася. – Гениально, понимаешь? Никто до Рожественского так не делал. Далее. Кульнев пишет: «На наших судах получались знаки японских переговоров – наш телеграф бездействовал». Кульнев недоумевает, почему, ну а ты-то, в конце двадцатого века, понимаешь – почему?
– Ни хрена я не понимаю, – признался я, возвращая ему тетрадь. – Политика – искусство возможного, история – искусство невозможного. В ней вечно, невзирая на известное правило, судят победителей, и никому это еще не удалось вполне. Случайно, Вася, не побеждают. Нас тоже победили не случайно.
– Ну нельзя же так, – скривился вдруг, как от боли, Вася. – Давай ограничим себя со всех сторон рамками так называемого здравомыслия, и ничего у нас не будет – ни истории, ни искусства, ни науки.
– А у нас и так ни фига нет. Ладно, не обижайся: нашел ты себе с этим Рожественским в жизни нишу, и слава Богу. Без этого теперь нельзя – сломаться можно. Давай хлопнем по рюмочке за упокой души мичмана Кульнева и адмирала Рожественского? А потом за наше здоровье.
Вася неохотно, как мне показалось, кивнул. Разговор не получился и, что самое печальное, не возобновлялся на эту тему больше никогда, кроме одного раза, последнего перед нашим расставанием в этой жизни. Вася обиделся или утомился мне объяснять, – а может, и то, и другое.
Между тем морская тема не миновала и меня, человека сугубо сухопутного. Отойдя немного от октябрьского потрясения, я дал себе слово, что если и буду когда-нибудь еще заниматься так называемой общественной деятельностью и политикой, то только в тех областях, где можно сделать что-либо реальное помимо митингов и болтовни. Скоро такая возможность представилась: шла борьба за Черноморский флот, который Ельцин, казалось, готов был сдать. А флот, несмотря на бедственное положение, был вещью реальной. Я стал ездить в командировки в Севастополь, писал о флоте и Крыме и даже был приглашен участвовать в сборпоходе Черноморского флота.
Здесь-то я и понял отчасти Васино увлечение: не столько суть его, сколько поэтику.