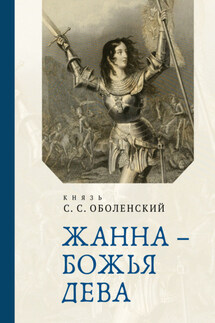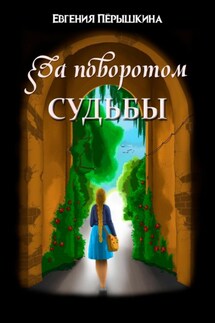Жанна – Божья Дева - страница 7
В промежутке между сборником показаний Реабилитации и, так сказать, «развёрнутой» биографией Девушки Режин Перну выпустила маленькую, но замечательную книжку: «Les Gaulois» (Ed. du Seuil, 1957). Здесь Жанна названа только один раз – в связи с пережитками кельтских культов в её родном Домреми. Но основная мысль этой книги заключается в том, что подлинная душа Франции – мистическая кельтская душа, полярно противоположная римскому рационализму и юридизму. «Религия галлов, как и их искусство, должны были внушать отвращение [римским] умам, воспитанным на рациональной логике. Больше общего с кельтскими народами могли обнаружить древние греки; по отношению к римлянам противоречие неистребимо». Кельтская религиозность «безмерно превосходит греко-римскую мифологию, лишённую всякого трансцендентного чувства, и даже всю совокупность средиземноморских философских и моральных учений, чисто и только гуманитарных… Она гораздо легче сочетается с библейской религией»… «В противоположность преследованиям со стороны [римского] государства кельтские страны воспринимают христианство с поразительной лёгкостью… У священных деревьев воздвигаются алтари, у священных ключей строятся часовни; но алтари Рима или Августа так не преображались, их нельзя было так преобразить. Можно было крестить культ девы, которая родит, но нельзя было крестить культ императора или Юпитера. Иными словами, мистическое чувство галлов и сущность их религии служили подготовкой к Евангелию, несовместимому с греко-римским классическим миром, который имел своим центром человека и основою – рабство». Режин Перну подтверждает даже то, что хотел доказать Шарль Пеги: христианство во Франции – эллинского происхождения, а не римского, оно «пришло из Греции и Малой Азии».
Казалось бы, оставалось показать в «развёрнутой» биографии Жанны, как этот непримиримый конфликт двух противоположных мироощущений и ими определяемых типов культур снова разыгрался в XV веке. Но тут – разочарование: в последующих трудах Режин Перну это почему-то не сделано, и даже основная – религиозная – сторона исключительности Жанны как-то слегка затушёвывается. Получились книги хорошие, достаточно точные, конечно, на фоне совершенно несомненной любви, но далеко не исчерпывающие, кое в чём слегка трафаретные и, в общем, даже менее яркие, чем первое простое сопоставление текстов. Это тем более огорчительно, что некоторые трафареты, повторённые в «Жанне, какой она была», превосходно устранены простым внимательным чтением текстов в чуть раньше вышедшей монографии О.Леруа «Sainte Jeanne d’Arc – Les Voix» (ed. Alsatia, 1956), прошедшей почти незамеченной и, однако, представляющей собою первое серьёзное исследование о мистической жизни Жанны.
Из огромного списка её существующих биографий я привёл, конечно, лишь наиболее известные или заслуживающие внимания. Как и в только что упомянутом примере, очень часто ценнее и интереснее общих биографий оказываются монографии по отдельным вопросам, на которые ссылаюсь далее в примечаниях к главам.
Самое важное – личность. Но у этой личности были, конечно, исторические предпосылки. Были определённые представления, которые она разделяла. Была определённая постановка вопросов, которые она перед ней возникли. Думаю даже, что был своего рода призыв, чтобы эта личность явилась. Две первые главы этой книги потребовались, чтобы отдать себе в этом отчёт. Основную библиографию по затронутым в них вопросам я привожу в примечаниях к этим двум главам, сейчас же ограничусь только одним замечанием общего порядка. В нынешней западной исторической литературе существует только два подхода к этим материалам: 1) Роджер Бэкон рассматривается в зависимости от того, «в какой мере он содействовал эмансипации разума»; 2) Жерсон признаётся на том основании, что «в XIX веке он всё же принял бы Ватиканский догмат». Обе фразы, взятые мною в кавычки, присутствуют дословно у крупнейших современных специалистов. Между тем полагаю, что мысль Бэкона или Жерсона нужно рассматривать «в себе». Чтобы понять духовные течения и конфликты раннего и позднего Средневековья, когда рационализм развивался главным образом в самой Римской Церкви и оппозиция Римской Церкви ещё не была загнана в протестантизм, нужно, мне кажется, прежде всего отдать себе отчёт в том, что в западном мире в то время ещё действовали мощные силы, которым в дальнейшем не оказалось места ни в официальном католичестве, ни в рационалистической светской культуре. Это и были предпосылки – пути, подводящие к образу, единственному в истории.