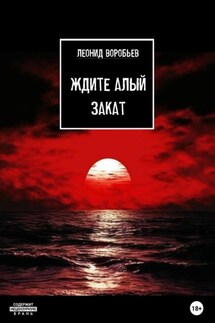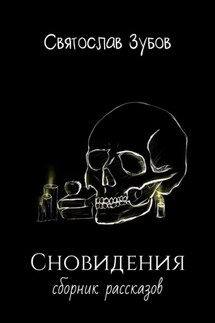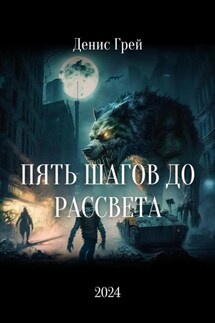Читать онлайн Леонид Воробьев - Ждите Алый Закат
Предисловие
И вот, спустя практически три года упорной и изнуряющей работы мой дебютный роман завершен. Крайне сложно передать словами ощущение от вида законченного произведения, которым и в котором я жил все эти годы, но, я бы сказал, что это некая совершенно безумная смесь эйфории и грусти. Эйфории от результата проделанной работы, которая, скажу честно, примерно втрое превзошла первоначальную идею своими глубиной и объемом, а грусти от ощущения расставания с миром, в котором столько времени провел, сочиняя его и собирая по крохотных кусочкам. Что же, теперь этот мир более не принадлежит мне в той же мере, в которой принадлежал вплоть до первой его публикации, отныне я и сам лишь сторонний его наблюдатель.
Сразу скажу, что пускай официально это моя дебютная работа, но фактически же не первая. «Ждите алый закат» – это второй мой роман – первый я был вынужден отложить, записав увесистую треть, а на момент старта активной фазы написания этого романа (весна 2022 года) я уже в течение двенадцати лет писал относительно небольшие рассказы, вот только их я публиковал исключительно в свой рабочий стол. В любом случае, это моя первая законченная работа, которую широкая публика должна узреть.
Тебе же, дорогой читатель, я благодарен от всего сердца за то, что ты подарил мне и моей работе свое время, и даже если тебе не понравится, то знай, что я все равно благодарен. Спасибо.
Что же по самому произведению – я создавал его, находясь в совершенно ужасном моральном состоянии, так что ощущения, испытываемые главным героем, я списал со своих, как и их динамику, и где герой проваливался в пучину тревоги и самобичевания, там же в них проваливался и я, и вместе со мной он из них выбирался, находя в себе силы бороться. Скажу сразу, что я не рассматриваю это произведение как в полной мере развлекательное (что, конечно, не значит, что я не пытался писать интересно) – я сочинял, потому что не мог иначе. Как не сложно догадаться, во многом места, персонажи, да и некоторые события описаны с моего личного опыта, порой даже те, которые кажутся полностью выдуманными – каждое место действия имеет реальный прототип, большинство персонажей тоже, да и психологический портрет главного героя также во многом списан с меня, вот только я совершенно не хочу, чтобы кто-то видел в нем меня, ведь я это Я, а он это ОН, пускай между нами и есть много общего. Другие же события и персонажи могут быть схожи с некоторыми событиями и персонажами из иных произведений, которые я в совершенно безумных комбинациях адаптировал «под себя». И, возможно, все это сделает произведение несколько труднопонимаемым, но я прошу, скорее, не пытаться понять его логически, а прочувствовать, разгадав символизм и метафоричность в его образах.
Особые благодарности я хочу выразить тем людям, без которых этот роман был бы невозможен: Османкина Светлана Станиславовна, Воробьев Виталий Владимирович, Воробьева Анна Александровна, Крылов Роман, Стоценко Роман, Бабкин Евгений.
Посвящается Ушаковой Галине Федоровне.
Лето. Глава 1: Прибытие
Высокая густая трава, заросли двухметровой кислицы и огромных, словно зонт, лопухов, качавшихся под дуновением легкого морского бриза, с огромной скоростью проносились за левым бортом автобуса, в котором я ехал домой. Желая поскорее окунуться в атмосферу своего родного города, я шире распахнул окно, и мне в лицо тут же ударил соленый морской воздух, запах которого я помнил с детства и, уверен, что в жизни ни с чем бы его не спутал.
Лучи июльского солнца, уже прошедшего свой зенит и понемногу опускавшегося к западному горизонту, слепили глаза, отражаясь от спокойного холодного моря за правым бортом. Вот в зарослях бамбука и травы за старой железнодорожной насыпью показались первые дома – ветхие почерневшие хибары с темными мутными окнами, окруженные старыми покосившимися заборами. На некоторых из этих домов полностью отсутствовали крыши – вероятно, последствия прошлогоднего тайфуна, обрушившегося на город в конце октября.
И вот, наконец, вдали у самого берега показались серые и скучные, но такие родные и знакомые панельные пятиэтажки. Отсюда начинался Южнопортовый – небольшой тихий прибрежный город, омываемый водами Татарского пролива и обдуваемый тремя ветрами, некогда бурно развивавшийся, а ныне спящий и потихоньку увядающий. Но каким бы со стороны ни казался этот город человеку, никогда в нем не жившему, будь то путешественник, турист или заезжий журналист – серым, унылым или безликим, я видел в нем свой дом. Казалось, какая-то неведомая сила десятилетиями копилась за этими бетонными стенами, под кронами высоких деревьев, на широких длинных улицах, в самой природе, атмосфера покоя и безмятежности, которой лично я не ощущал в прочих городах, в которых мне довелось побывать, и уж тем более в огромных мегаполисах.
Наконец, мы въехали в город, где с обеих сторон нас окружили вытянутые вдоль дороги длинные узкие спальные районы, составленные из все тех же панельных домов, а на балконах я увидел и их жителей: кто-то развешивал постиранное белье, кто-то курил, задумчиво смотря вдаль в только лишь одному ему известную точку на горизонте, кто-то вел непринужденные беседы со своими близкими. По улицам сновала ребятня, люди, неторопливо бредущие по своим делам да молодые матери с колясками. Жилые здания чередовались с портовыми строениями – конторами и складами, время от времени попадались старые скверы, посвященные то годовщине победы в Великой Отечественной войне, то первому полету человека в космос, то старым мореплавателям-исследователям Дальнего Востока.
Конечная остановка междугороднего автобуса находилась в самом центре города, а ехать туда сейчас, чтобы после брести несколько километров обратно по жаре, да еще и с двумя тяжелыми сумками мне совершенно не хотелось, как бы я ни соскучился по родным краям. Итого, завидев приближение своего района, я поднялся со своего места и проследовал к кабине водителя.
– Остановите на «Школе», – попросил я, водитель в ответ лишь молча кивнул головой, недовольно скорчив губы, и остановил машину на нужной мне остановке.
Вот я и приехал. Без малого, пять лет прошло с тех пор, как я последний раз ступал на эти улицы, но, казалось, здесь совсем ничего не изменилось. Продолжая озираться по сторонам, я перешел на другую сторону улицы, благо, движение в городе никогда не было сколь-либо плотным, тем более под вечер выходного дня, а сегодня, к слову, была суббота.
Я ступал по пыльной грунтовой дороге, что тянулась вдоль мелкого быстрого ручейка, бежавшего с неизвестного мне источника в распадке меж двух высоких сопок, а сквозь подошву своих туфель я, казалось, чувствовал каждый камушек. Где-то на середине пути мой взгляд упал на торчавшую из земли ржавую арматуру, о которую я когда-то в детстве споткнулся и, упав на камни, разодрал себе колени. Да, пожалуй, в этом городе время действительно замерло. Спустя еще десяток метров я пересек железную дорогу и вышел на свою родную улицу, узкой линией растянувшуюся с севера на юг вдоль гряды высоких зеленых сопок, я уже видел свой дом, расположившийся у самого подножия высокого пика с установленным на нем маячком для авиатранспорта. А на балконе своей квартиры я прямо отсюда разглядел мать, она со своим далеко не идеальным зрением узнала меня с расстояния сотни метров и замахала рукой, призывая скорее идти домой. Впервые за долгое время мое лицо растянулось в улыбке, теплой и искренней. Думаю, мы бы узнали друг друга и с куда большего расстояния.
Пять лет, пять долгих лет я не появлялся в этом доме. Как и в случае с городом, при беглом осмотре видимых изменений обнаружить мне не удалось, однако еле уловимая динамика времени крылась в деталях. Будь то пара новых морщин на лице матери или прядь седых волос на отцовской голове, возможно, отходившие местами уголки обоев или треснувшее на двери в мою старую комнату стекло: во всем, что меня окружало, ощущалось неумолимое течение времени. Но это все еще был мой дом, место, где я вырос.
Родители встретили меня, что называется, с распростертыми объятиями и тут же накрыли большой стол, уставленный различными вкусностями: печеной до хрустящей корочки курицей с гарниром в виде риса, совсем как я любил в детстве, моими же любимыми салатами и нарезкой из колбасы, сыра и копченой кеты. Сначала я подумал, что не стану много есть, но стоило мне лишь почуять запах домашней еды, так аппетит пришел, откуда ни возьмись.
Солнце потихоньку ползло вниз, опускаясь все ниже и ниже к темно-синему горизонту распростертого на многие километры моря. Я, как следует, набив живот, чуть покачиваясь после двух выпитых кружек свежего пива, вновь вышел из-за стола и подошел к окну. Во дворе царила небывалая идиллия – дети играли на небольшой площадке, на лавочке сидели и о чем-то активно беседовали их матери, пожилая женщина гуляла со своей собакой. Две большие черные вороны уселись на крыше дома напротив, высматривая себе ужин. А там, за домами раскинулся Татарский пролив, такой тихий и спокойный сегодня. Где-то вдали от берега на рейде стояли большие сухогрузы: я насчитал три штуки. Оказывается, с нашего самого высокого – пятого этажа открывался потрясающей красоты вид!
– Ну а что у нас с городом? – задал я, внезапно возникший в голове, вопрос.
– Да, развивается потихоньку, – ответила мать. – Рыбный промысел возродить все пытаются, даже завод упаковочный построили. Масштабы, конечно, далеко еще не советские, но вот хоть что-то уже.
В это же самое время мой взгляд упал на маленький кораблик, что шел, казалось, по самой линии горизонта, утопая в лучах заходящего солнца. С такого расстояния он казался крохотной черной точкой, медленно плывущей с севера на юг по ровной, словно стекло, водной глади.
– Да, – добавил отец, – только вот стоит эта продукция так, словно ее к нам откуда-то из Америки привозят.
– А это? – указал я на тарелку с заметно поредевшей нарезкой из копченой кеты.
– Обижаешь! Это я сам коптил, а рыбу у местных ребят купил.
Я легонько улыбнулся и сел обратно за стол.
– В общем, местным этой продукции меньше всего достается?
– Ну да. В основном на материк ее шлют, за границу тоже. Но зато рабочие места появились в городе в кои-то веки. Машины теперь, дорогие у нас по городу разъезжают, и особняки тут и там стоят.
– Дай угадаю – начальство того самого завода?
– Ну да, начальство, – ухмыльнулся отец и сделал глоток из своего стакана. – Впрочем, и не только.
– А что такое?
– Ну а что еще? Мафия, разумеется, – ответила мне мать.
– Какая еще мафия?
– Ну, такая. Обычная.
Я покосился сначала на мать, затем на отца.
– Организовали это производство сначала одни люди, стали выходить в море за рыбой. Понемногу добывали, развивались, продавали на рынке, киоск там свой открыли. Наверное, год так просуществовали. А потом у нас тут полезные ископаемые нашли. Уголь, нефть, вон, на шлейфе. Видел, наверное, вышки в море, когда в город въезжали? Быстро появились предприимчивые ребята с материка, добычу организовали, людей тогда прибавилось немного, город как-то ожил, в бюджет деньги пошли. А на деньги, собственно, мафия-то и потянулась. Появились они года два или три тому назад, стали бизнес у людей отжимать. В один день начальник рыбного промысла продает свое предприятие и уезжает неизвестно куда. А на месте руководителя появляется другой человек, который выкупает один из доков и строит там комбинат. И тут понеслось. На рынке киоск закрылся, цены взлетели, а большая часть лова пошла за пределы города и области. И это лишь капля в море.