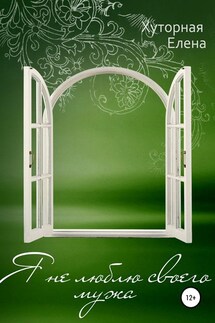Живу беспокойно… (из дневников) - страница 69
Дальше забыл. Почему я стал писать именно эти стихи? Почему взбрела мне в голову морская царица? Откуда я взял этот размер, эти слова? Не знаю теперь, как не знал и не понимал тогда. Я чувствовал страстное желание писать стихи, а какие и о чем, – все равно. И я писал, сам удивляясь тому, как легко у меня они выливаются и складываются, да еще при этом образуется какой-то смысл. Любопытно, что в те годы к стихам я был равнодушен. Не помню ни одного, которое нравилось бы мне, в которое я влюбился бы или хотя бы просто запомнил его. Но, так или иначе, решив стать писателем в семилетнем, примерно, возрасте, я через пять лет написал стихи, движимый неудержимым желанием писать. Все равно о чем и все равно как. Я стал писать не потому, что меня поразила форма какого-то произведения, а из неудержимой, загадочной жажды писать. И это определило очень многое в дальнейшей моей судьбе. Хотя бы то, что я очень долго глубоко стыдился того, что пишу стихи. И что еще более важно – литературную работу я до сих пор, при всем моем уважении к профессиональности, считаю еще и делом глубоко, необыкновенно глубоко личным. Итак, летом 1909 года, в мраке и хаосе, в котором я суетился, как дурак, я темно и хаотично, но вдруг почувствовал путь. Началось медленное, медленное движение к жизни. В августе 1928 года, проезжая через Туапсе, я пошел знакомой дорогой на гору и прошел почтительно мимо домика, где я наткнулся на выход из тьмы.
20 августа
Несмотря на рыбную ловлю, море, порт, купанье, встречу со Шмелевым, стихи, я в последние дни стал скучать по Майкопу и стремиться вон из Туапсе. Помню, как я поднял коробочку, валявшуюся в палисаднике нашего домика. Мне стало жалко эту коробочку: мы уедем, а она останется, бедняга, в этом чужом городе. Незадолго до отъезда я бродил с одним из кадетиков на реке Туапсинке. С наслаждением шагали мы по зарослям густым, как в тропиках, потом выбрались на шоссе, ведущее к Сочи. Прошли с версту. И тут кадетик рассеянно, по общемальчишеской привычке швырнул камнем в ласточку. И попал! Птичка упала на шоссе и забилась. Мы бросились к ней. Взяли ее на руки. Обрызгали водой из родника. Подули ей в клюв. Ласточке как будто полегчало. Во всяком случае, когда мы посадили ее на ветку дерева, так высоко, как только могли, – птичка не упала. Она сидела неподвижно, не улетая, не двигая головой, но клюв ее был закрыт и она не похожа была на умирающую. И всю дорогу допрашивал меня кадетик: как я думаю, поправится ласточка или нет. А я утешал его, а сам придумывал рассказ о мальчике, который, пока был кадетом, пожалел ласточку, а выросши, расстрелял рабочую демонстрацию. Но написать его не мог. Почему-то было стыдно.
22 августа
Пока что весь мой душевный опыт, все поэтические ощущения, все, что я мог бы сказать, как бы отделены стеной от того, что я говорю в стихах или в задушевных разговорах. Я еще ничего не выразил, но мне уже легче оттого, что я пробую голос, бормочу.
29 августа
Начались занятия. Движение в сторону некоторого просвета продолжалось. Я стал учиться несколько лучше, но высоты, которую занимал в первом-втором классе, так и не достиг. Товарищи относились теперь ко мне как к равному. Я тщательно скрывал, что пишу стихи, но меня упорно считали поэтом и будущим писателем, неизвестно почему.