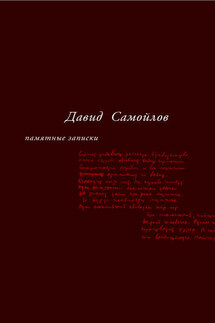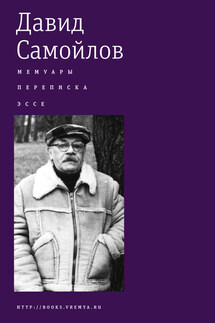«Жизнь – счастливая сорочка». Памяти Михаила Генделева - страница 10
Господи! Ну почему в нашей земной глуши время так тупо прямолинейно?! Ведь он все еще ждет меня на углу, как мы и договаривались, напряженный (новые стихи в рюкзаке) и напоминает стрелу, натянутую на нерв.
А еще, как и большинство из нас, был он в те годы по-эмигрантски надрывно беден, любил свою красавицу-жену и маленькую дочь, но семья разваливалась: вместе с опустошенными чемоданами он снес в подвал муниципальной квартиры планы трудо- и жизнеустройства ради беспрепятственного сочинения стихов. И честно оповестил об этом. Он праздновал новую страну, как празднуют новоселье.
Из города, перекормленного стихами, Генделев приехал во всеоружии стихотворства. Но стихотворца в поэта превратила только Первая Ливанская война, – он отслужил ее в качестве военврача («полкового лекаря» его словами), и война в благодарность, как орденом или медалью «За отвагу», одарила его Темой. А тема – это тело поэзии.
Междуречье, Тир, Сидон, Вавилон, Ливан… Какие свежие, какие незатоптанные земли! Здесь воистину не ступала нога ни русского солдата, ни русского поэта. Исполнение желаний: вырваться из магнитной ловушки русской поэзии, на волю, на вольные хлеба: «Мне так хотелось бы уйти из нашей речи, уйти мучительно и не по-человечьи». Потому что: «Господь наш не знает по-русски и русских не помнит имен».
Господь, Наш, ваш, всехний, Адонай, Аллах, Христос… Сплошные псевдонимы. Но каково бы ни было его настоящее имя, еврейской традицией запрещенное к произношению, – после Ливана и до конца в поэзии Генделева Господь господствует безраздельно. Более интересного собеседника он так и не сыскал. Вера? Но вера не в счет: «Я верил бы в бессмертие души, да две метафоры перегружают строчку». Иудаизм, правда, и не настаивает на вере как непременном условии общения со Вседержителем, скорей на доверии. Только где ж его взять?
Жанр отношений с еврейским Богом Генделев определил сам, ясно, просто и – для еврея – вполне традиционно: спор. «Спор Михаэля Бен Шмуэля из Иерусалима с Господом Богом нашим о смысле…». Резоны спора, точнее, вызова у Михаэля Бен Шмуэля, в сущности, те же, что были у Иова, только помноженные на шесть миллионов.
Именно после Ливанской войны Катастрофа как кислород входит в состав воздуха, которым дышит генделевский стих, и пепел оседает даже на ликующие пейзажи. Не тот пепел, что стучит в сердце, а тот, в который само сердце превратилось.
Думаю, что Катастрофа, как ничто другое, понудила Генделева резко поменять регистр старинного спора евреев между собой и Вседержителем.
Строка из вида на Бейрутский порт с греческим судном в фокусе окуляра: «И видим надпись на корме: “Метафора”, чего? – Зиянье».
Так вот: если двигаться по теологическому вектору поэзии Генделева, получим не безадресную метафору («зиянье»), но метафору зиянья, и это есть Бог.
Если вам понравилась книга, поддержите автора, купив полную версию по ссылке ниже.
Продолжить чтение