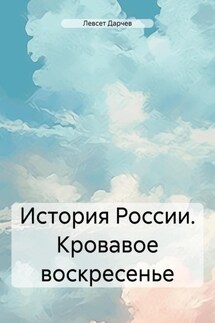Читать онлайн Игорь Кривогуз - Жизнь статиста эпохи крутых перемен. История историка
НЕОКОНЧЕННАЯ КНИГА
Предисловие сына
Мой отец – Игорь Михайлович Кривогуз – отличался невероятной работоспособностью и целеустремленностью. Имея слабое здоровье и далеко не лучшие начальные условия, в 38 лет он защитил докторскую диссертацию и еще через год получил звание профессора. Он преподавал и ездил за рулем до 79 лет, но и позже работал за компьютером, в библиотеках и архивах, вел обширную научную переписку. Остановился лишь в больнице за десять дней до кончины. Всю жизнь отец придерживался строгого распорядка дня и делал зарядку. Перед сном, уже в постели, обязательно около часа читал художественные произведения – новинки, мемуары или классику. Обладая неудобным характером, он был чрезвычайно требователен к себе и окружающим, не был склонен прощать слабости других. Это не раз мешало его карьере и осложняло отношения с близкими.
К детям не проявлял особой нежности и часто был недоволен мной и братом. Бытовыми делами занимался только тогда, когда ему самому этого хотелось: мог, например, купить на рынке и запечь баранью ногу. Любил кавказские блюда и кукурузную кашу, называл ее мамалыгой.
Эту книгу он писал последние несколько лет своей жизни. Использовал материалы архива Министерства обороны в Подольске, при этом в свои восемьдесят лет ездил туда на электричке. Сам набирал текст на компьютере. Вторая глава этой книги – «На фронтах» – в 2009 г. была издана в несколько расширенном варианте отдельной книгой Московским государственным институтом печати, а на следующий год выпущена в свет «Воениздатом» с иллюстрациями, в твердой обложке, тиражом три тысячи экземпляров.
Автор собирался довести свои воспоминания до наших дней, или, по крайней мере, до начала нынешнего века, о чем свидетельствует приведенный выше план книги. Но не успел, он скончался 23 марта 2013 г., не дожив полутора месяцев до 87 лет.
После того как летом 2017 г. ушла из жизни мама, я остался за старшего в нашей семье и при этом единственным представителем своего поколения – в 1996 г. в возрасте 39 лет безвременно погиб в автокатастрофе мой младший брат Николай. Считаю своим долгом оставить моим родственникам, дочери, внучке и внуку этот рассказ о жизни моего отца, их деда и прадеда. А может быть, книга будет интересна и не только членам нашей семьи.
Я отредактировал текст и снабдил его сносками там, где счел это необходимым для более полного раскрытия сюжета или действующего лица. Насколько возможно, пытался сгладить фрагментарность рукописи. Кроме того, позволил себе убрать некоторые повторы и длинноты, где излагались события в стране и мире без описания их восприятия автором. При желании эту хронику можно найти в публикациях историков или в сети Интернет. Еще я написал послесловие и в качестве приложения добавил свои впечатления о родственниках и друзьях, с которыми общалась наша семья, отдавая должное памяти этих замечательных людей. Отец планировал, но не успел написать о многих из них.
Составитель выражает благодарность Людмиле Николаевне Кузнецовой за помощь в подготовке рукописи к изданию.
Михаил Кривогуз Москва, 2021 год
В последние дни наша земля разваливается на куски. Все указывает на то, что мир быстро приближается к своему концу: повсюду процветает взяточничество, дети больше не слушаются родителей, каждый хочет написать свою историю.
Текст на глиняной табличке.Ассирия. 2800 лет до н.э.
ЗАЧЕМ И КАК ЭТО НАПИСАНО
Предисловие автора
За тысячелетия существования письменности подобная ситуация происходила во многих странах с многими людьми. И в нашей бескрайней Родине за последние 100 лет поколения людей оказались вольными или невольными участниками крушения Российской империи, попытки фанатиков реализовать утопическую гипотезу о коммунизме в беспощадной гражданской войне и строительстве «реального социализма». Затем разразилась жесточайшая Отечественная война. А после нее – эпоха «холодной войны» против «мирового империализма», создание ракетно-ядерной «сверхдержавы» и «международного лагеря социализма». Наконец, настало время трагического крушения, болезненных либеральных революций и зигзагов реформ в Российской Федерации и других постсоветских странах.
К революциям 1917 г., Гражданской войне и созданию СССР я родиться опоздал. Но с детства вместе с миллионами был вовлечен в преобразования и стал статистом крутых поворотов истории России. В ее триумфах и трагедиях, не попав ни в герои, ни в изгои, был лишь одним из многих миллионов соучастников со своей долей ответственности за происходившее.
Этого оказалось достаточно, чтобы захотеть написать книгу не о великих событиях и идеях прожитого времени, не о вождях и их советниках, которых видел лишь издали, а о жизни своей, близких и знакомых, о наших мыслях и делах, о восприятии нами идей и перемен.
Партийно-советское руководство с 1917 по 1991 г. мобилизовывало нас на преобразование всего человечества по лекалам рациональной утопии. Ход событий создавал иллюзию продвижения к «конечной цели», остававшейся недосягаемой. Только надежды на лучшее поддерживали жизнеспособность людей в годы «исторических решений» и нескончаемых перемен, когда уместно было бы вспомнить древнюю китайскую поговорку: «Не дай Бог жить в эпоху перемен!»1 Условия нашей жизни не раз существенно менялись, но почти всегда оставались экстремальными. Наши суждения о них были «за десять шагов не слышны», мы привыкали к любым обстоятельствам, считали их нормальными, и нередко попадали в сложные, даже драматические ситуации. Это способствовало развитию и выявлению наших лучших и худших свойств. Среди нас обнаруживались люди самых разных качеств и масштабов, более или менее сознательные или невольные соучастники перемен, и их жертвы. Судьбы миллионов людей подтверждают давно известный «конечный вывод мудрости земной: лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой»2.
Описываемые суета сует и банальности частной жизни дают некоторое представление о многогранности общественных коллизий и исторических поворотов, которыми они определялись. Надеюсь, читатель сам разберется, кто в какое время за какую жизнь и свободу шел на бой или уклонялся от него, и почему даже самым достойным добиваться успеха удавалось далеко не всегда. Интересующиеся прошлым найдут в книге, выражаясь аллегорично, кусочки смальты для воссоздания его мозаичной картины.
Как у миллионов, мои цели и мотивы участия в происходящем, а также оценки прошлого и настоящего не раз корректировались и существенно изменились под воздействием происходивших перемен, накопления жизненного опыта, пропаганды и размышлений. Поэтому вместе с воспоминаниями о своем непосредственном отношении к событиям и процессам прошлого высказываю и оценки, сложившиеся позже.
Обдумывая свою жизнь, пришел к выводу, что ее первую часть я учился ничего не бояться, вторую – никому не верить, последнюю – никого ни о чем не просить, как принято в уголовном мире. В своих десятилетиях я не избежал искушений доверчивости и неверия, смелости и свободы. Пусть не покажется претенциозным самолюбованием: в книге показано, что не бояться, не верить, не просить мне удавалось не сразу и не всегда, да и получалось это часто не в результате осознанного решения. Для объяснения этого мне показалось нелишним привести даже неприятные эпизоды моего прошлого и многие мелочи, влиявшие на меня, или характеризовавшие среду обитания.
Подобным непростым путем – осознанно или нет – к освоению своих гражданских прав и свобод в постсоветском пространстве продвигаются десятки миллионов людей. Но книга рассказывает только о том, как это получалось у меня – одного из участников провалившегося коммунистического эксперимента и начавшейся трудной либерализации.
Чтобы размышлять и писать о себе и окружавших, потребовалось вспомнить события, в которых участвовал, что видел, слышал, чувствовал и думал, как действовал, и нередко оценить все заново. Использовал сохранившиеся личные бумаги, разрозненные записки, письма, а также публикации. Многое пришлось проверять, уточнять и дополнять по записям, воспоминаниям и письмам родителей и других родственников, а также по рассказам, письмам и рукописным материалам друзей и знакомых. Обращался также к опубликованным воспоминаниям и исследованиям современников, к прессе разных лет, к документам различных учреждений и некоторым материалам Государственного архива РФ, Российского архива социально-политической истории, Центрального архива Министерства обороны РФ, Российского государственного военно-исторического архива.
Моя решимость пополнить огромную и продолжающую расти литературу о событиях и людях последних 85 лет воспоминаниями о себе, близких и знакомых поощрялась усилением общественного внимания к жизни рядовых участников истории. Когда талантливых писателей для ее отражения стало недоставать, возросло количество мемуаров высокопоставленных персон и их советников, а затем хлынул поток книг-воспоминаний множества рядовых участников нашей жизни, различного рода «солдатских мемуаров». Это и придало мне смелости записать свои «старческие россказни, – как выражался В. Соллогуб, – о том, что было, так как в будущем ничего предвидеться уже не может».
О рассказанном здесь имеются разные мнения. Моя жена считает, что писать о себе, даже о своих недостатках, нескромно и неприемлемо. А хороший друг советовал писать только о том, что «действительно значимо, что вызывает общий интерес». Существует мнение, что авторы мемуаров всегда намеренно или невольно стремятся обелить себя, или же уходят в другую крайность – выворачиваются наизнанку перед читателем. Наверное, это правда. Старался крайностей избегать. Писать о себе неловко, выявлять общественно значимое нелегко, ведь действия мои обычные, мысли не отличаются глубиной, а чувства – яркостью, и общего интереса вызвать не могут. И литературным даром представить повседневное увлекательным я не обладаю. Но уж если решился и написал, не осталось ничего иного, как следовать С. Моэму, который считал, что «удовлетворения писатель должен искать только в самой работе и в освобождении от груза своих мыслей, оставаясь равнодушным ко всему привходящему – к хуле и хвале, к успеху и провалу».
И. Кривогуз
Москва, январь 2013 г.
I
ПРИОБЩЕНИЕ К «РЕАЛЬНОМУ СОЦИАЛИЗМУ»
Добиваясь реализации своих идей в завоеванном ими и провозглашенном Союзом Советских Социалистических Республик конгломерате разнородных регионов Российской империи, большевики-коммунисты вовлекали в «строительство» социализма все население. С родившимися уже в СССР в 1920–1930-х годах им было легче, чем с большинством старших, но все же непросто. Ломка прежних укладов и возведение новых сокрушали судьбы миллионов, противившихся преобразованиям или пытавшихся остаться на обочине, и их детей. Да и советско-коммунистические порядки и идеология сложились и окрепли не сразу.
Укрепив всевластие руководства РКП(б) – ВКП(б) и подчинив ему Советы, большевики для создания основ социализма форсировали индустриализацию, коллективизацию сельского хозяйства и культурную революцию. «Социалистическая индустриализация» с ограничением потребления и ужесточением государственной эксплуатации всего населения привела к снижению примерно в два раза доли оплаты труда в стоимости продукции, но не смогла догнать наиболее развитые страны по производительности труда, хотя и обеспечила страну современными средствами производства и вооружениями. Коллективизация крестьян с экспроприацией и жестоким подавлением сопротивлявшихся вызвала Голодомор, подорвала производство продовольствия, но пополнила материальные и людские ресурсы для индустриализации и подчинила сельское хозяйство государству. Культурная революция ликвидировала неграмотность большинства населения, обеспечила просвещение масс и подготовку необходимых специалистов с усвоением ими принципов социализма, советского патриотизма и пролетарского интернационализма. Возрождением некоторых народных традиций и исторической памяти с середины 1930-х годов «социалистическому содержанию» культуры придавались «национальные формы», способствовавшие вовлечению различных этносов населения в строительство и защиту социализма.