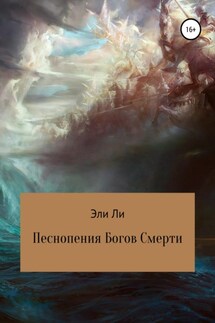Жизнь вместо жизни - страница 5
Когда получили студенческие билеты, оказалось, что это не вечернее, а заочное отделение. Отсрочка от призыва заочников не касается. Забирать документы и поступать заново в другой ВУЗ, я не рискнул. Учиться и работать оказалось очень сложно, гораздо сложнее, чем предполагал и я обзавёлся несколькими «хвостами». У меня был вариант: после окончания первого курса перевестись на дневное отделение, снова на первый курс, но мне отказали. Вероятно, из-за «хвостов».
Сказать честно – большого интереса и энтузиазма в учебе я не проявлял, – видел себя авиационным инженером, как мой двоюродный брат, Зиновий Турецкий. Когда мне было ещё 14 – 15 лет, в один из длинных зимних вечеров, просматривая с родителями семейный альбом, увидел на фотографии молодого офицера – в форме старшего лейтенанта с «крылышками» в петлицах парадного кителя.
– Кто это? – поинтересовался я у мамы.
– Твой двоюродный брат, его мама моя сестра.
– Он кто, летчик?
– Нет, он служит авиационным механиком, где-то в Средней Азии.
На этом разговор закончился, но чувство уважения и хорошей зависти осталось – кто из мальчишек в годы первых спутников и первых космонавтов не хотел видеть себя в авиации, откуда, как считалось, открывалась прямая дорога в космос … Кроме этого, в 18 лет хотелось ещё и погулять …
В общем, я оказался там, где оказался – в солдатской казарме…
Вполне вероятно, что со своей дороги я свернул ещё раньше, года за три до окончания школы. После окончания восьмого класса, весь наш класс, в полном составе, перевели в другую школу. Школа была новой, там собрался весь цвет учительского состава. Поступление в ВУЗы после неё было почти сто процентное. Учились в этой школе дети всего городского и заводского начальства. Собственно, городское и заводское руководство было практически в единых лицах, ибо руководство одного из крупнейших металлургических заводов страны определяло всю жизнь нашего городка. Мой отец не входил в это число – он работал в цехе старшим мастером.
Уже в шестых – седьмых классах среди ребят стали появляться отдельные компании – не по интересам, не по совместному проживанию, а по социальному положению своих родителей. Родители сами учили своих детей – с кем нужно дружить, а с кем только можно, а вот с теми – нельзя. Этих детей можно приводить в гости, а тех – весьма нежелательно, лучше не приглашать совсем. Естественно, и отношение было соответствующее.
Я это хорошо чувствовал, поэтому, за неделю до начала учебного года, перешёл в другую школу – одиннадцатилетнюю, с производственным обучением. Ребята в этой школе были проще, тем более, что встретил двух своих прежних одноклассников. Быстро приобрел новых друзей и чувствовал себя вполне комфортно, значительно лучше, нежели среди «высокопоставленных» учеников.
В цехе, куда нас привели на производственное обучение, бросилось в глаза большое количество рабочих в военной форме без погон. В бригадах было много бывших офицеров, попавших под знаменитое «хрущёвское» сокращение армии. Среди них были представители всех родов войск. Моим наставником оказался бывший авиационный инженер – капитан Шантуров, имя и отчество его, к сожалению, запамятовал. Он с таким увлечением рассказывал о своей бывшей работе – да, да именно о работе, а не о службе – было видно, что он любил свою профессию, скучал по ней.
Он много рассказывал о самолетах, об их красоте и мощи; рассказывал с такой любовью, словно они были живыми – так можно было говорить только о самых близких людях и друзьях. Конечно, он не рассказывал о деталях своей работы, но никогда не жаловался на трудности своей нелёгкой специальности, хотя и не скрывал их, относясь к ним с хорошим чувством юмора. Был он нетороплив, все движения его были точны, выверены до миллиметра; в них чувствовалась профессиональная мудрость и уверенность, – да и сам он притягивал к себе своей доброжелательностью.