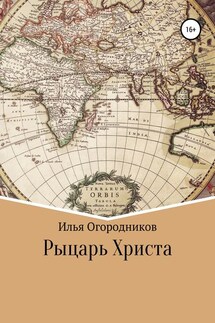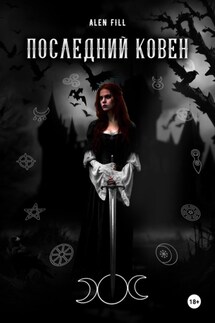Жизнь языка: Памяти М. В. Панова - страница 75
I. Взаимодействие рифмы и звуковых повторов в стихотворениях Пастернака.
Рифма Маяковского и Асеева (сопоставительное описание).
Ритмика Александрийских песен М. А. Кузмина.
Ритмические парадоксы в стихотворениях Андрея Белого и их значение для его поэтики.
Ритм и синтаксис у И. Бродского.
Звуковая гармония Батюшкова и Мандельштама (сопоставительный анализ).
П. Сравнение у Маяковского.
Символика быта у А. А. Блока (лингвистический анализ).
Двуплановая образность в лирике А. Белого (лингвистический анализ).
Приятие – неприятие мира в поэмах Павла Васильева (лингвистический анализ).
III. Сопоставление московской и пражской фонологических теорий.
Значение исследований Р. И. Аванесова для развития фонологических идей в лингвистике.
Под его руководством написаны дипломы (я была их рецензентом) Ю. В. Афиногенова «Звуковая гармония в поэзии Батюшкова», О. М. Тиунова «Звуковые повторы Б.Пастернака», две кандидатские диссертации – С. Барышевой и М. Яшуничкиной.
Во время заседаний кафедры М. В. просил меня записать для него самое существенное. Разумеется, от краткости возникал особый стиль. Сохранились и его шутливые реплики.
– У Вас научный и творческий потенциал.
– Это Ваше убеждение. Или по слухам?
– Говорят.
– Врут.
– Это коренные характеристики языка.
– А где лиственные?
– Рецензент – Телия.
– Поет песенку протяжно.
Иногда возникал диалог между нами:
– А диплом? Gut?
– Честный.
Кода буит интересная скажити мне.
Кто эти вредные тетушки?
А Ваша – пообедавши?
В те же годы он был приглашен в Православный университет Иоанна Богослова. Курс по истории поэзии читал для студентов дома. Позднее они стали его друзьями и помощниками. Через субботу бывали у него. Остались с ним до последних дней. Максим Федоров, Аня Гусева (Ткаченко) были у него в ночь в конце октября 2001 года (ночь – его рабочее время), когда он пришел в себя, поел, говорил с ними. Потом снова стало хуже.
Михаил Викторович предложил и мне читать лекции в МОПУ и Православном университете. Так что в эти годы преподавание объединяло нас. Но в те же годы шла напряженная работа над учебником для средней школы.
Она началась в конце 70 – 80-х годов. Был написан и издан первый вариант учебника под ред. М. В. Панова и И. С. Ильинской. По нему началась проверка в Харькове (В. В. Репкин, М. Я. Левина, П. С. Жедек ежедневно работали с учителями). Учебник поступал к ним частями. Рассказывают, что когда новый раздел попадал к ребятам, они сразу прочитывали его. Мы (и М. В.) постоянно ездили в школу в командировки. В харьковской школе новую программу начинали с первого класса. «Мы наблюдаем за работой, которая происходит у нас в рту», – так отвечали первоклассники на вопрос учителя, чем же они занимаются на уроках русского языка. Это было замечательное живое сотрудничество.
Затем эта работа трагически оборвалась. Разгромили экспериментальную школу в Харькове. В Москве из Института русского языка ушел М. В. Панов. Работа над вторым, усовершенствованным, изданием учебника под руководством М. В. (с изменившимся составом авторов: ушли В. Д. Левин, В. А. Ицкович, В. В. Лопатин, пришли новые авторы – Н. Е. Ильина, Т. А. Рочко, И. А. Крупская) началась позднее, в 90-е годы. Сколько изобретательности в обсуждениях, сколько труда вложил М. В. в каждый раздел.
Михаил Викторович – мастер изобретать новых героев, придумыватель слов. Приведу два не включенных в учебник кусочка из моего архива. Записи показывают, что языковая фантазия М. В. была неиссякаема: