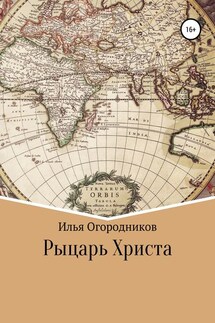Жизнь языка: Памяти М. В. Панова - страница 72
Но, к счастью, Панов-лектор был сохранен для московской общественности. Заведующая кафедрой русского языка МГУ К. В. Горшкова, проявив опасную по тем временам гражданскую смелость, из года в год приглашала Михаила Викторовича читать спецкурсы. Вот на них-то и повалила вся Москва. Самая большая аудитория филфака переполнялась за четверть часа до начала лекции. Сидят на подоконниках, на ступеньках, стоят около доски и преподавательского стола – войти в аудиторию невозможно. Но вот к аудитории подходит Панов. Толпа раздвигается ровно настолько, чтобы пропустить одного человека, и снова смыкается. Лекция начинается – и проходит на одном дыхании.
Студентам университета уже привычно стало видеть на задних партах пожилых людей. Среди них и мы, его первые студенты, «пановские девочки», как нас называли. Но новые студенты смотрели на него такими же влюбленными глазами.
Казалось бы, можно ли слушать одну и ту же тему по орфоэпии четыре-пять раз? Оказывается, у Панова можно, потому что лекции всегда разные и новая лекция всегда интереснее предыдущей: в ней новые имена, новые факты из разных областей науки, культуры, искусства, неожиданные параллели.
Когда Михаил Викторович читал спецкурс по истории русского поэтического языка, каждая лекция становилась событием. Помнится, одна лекция пришлась на 31 декабря. Аудитория почти пустая – всего человек 20. Панов спокойно говорит: «Да, не зря бытует мнение, что Тютчев – поэт для немногих». И начинается таинство поэтических откровений. Выходим – опьяненные тютчевской поэзией и своеобразием его языка. Кто-то говорит: «Каждая лекция – это концерт». Его манера чтения стихов – не актерская, не поэтическая (вспоминается любимая тема Михаила Викторовича: противопоставление актерской и авторской манеры чтения стихов), но здесь она особенная – пановская: тихий голос, монотонная интонация, щемящая печаль в оглушении концовок строфы – и при этом отчетливая слышимость выразительных поэтических средств. А совсем недавно все узнали, что и сам он поэт. Вышел маленький сборник его стихов, написанный в течение большой жизни.
Однако никакой жизни не хватит для того, чтобы реализовать идеи, которые переполняют его лингвистическое сознание. Новые темы рождались из самой жизни. Как-то еще в институте, пробегая мимо него по лестнице, я весело поздоровалась: «Здрась, Мих. Виктч!» Он задержал меня и сказал, намеренно растягивая слова: «Галя, я все жду, когда вы мне скажете: „Здрав-ствуй-те, Михаил Викторович!“ – тогда я смогу поговорить с вами о газете». Это сопоставление разговорного «здрасьте» и размеренного «здравствуйте» было, возможно, началом работы над произносительными стилями. А когда, будучи заведующим сектором современного русского языка, он написал на заявлении сотрудницы об отпуске резолюцию «Надо дать» вместо «Не возражаю», чем вызвал недоумение бухгалтерии, он был поглощен новой тогда идеей функциональных стилей и показал на практике, что деловой стиль не терпит модификаций и состоит из штампов.
Мне посчастливилось быть первой аспиранткой Михаила Викторовича. «Первенькая» – как говорит он иногда. Занятие лингвистикой превратилось в творчество. В этом и состоит преподавательский талант Михаила Викторовича – учителя и ученика объединяет единый творческий процесс, в котором всё общее: и напряженность поиска, и радость открытия. Так, по крайней мере, казалось ученику.