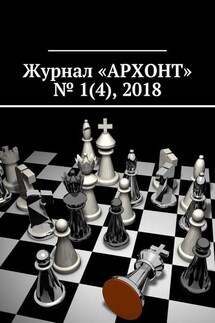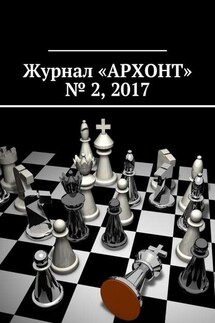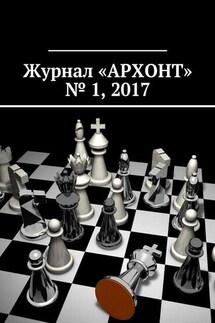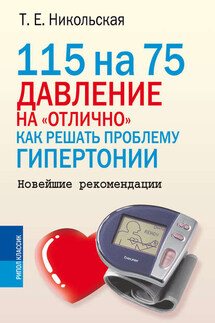Журнал «АРХОНТ» № 1, 2017 - страница 5
Наконец, обратимся к воззрениям прогрессистов на Дальний Восток и Китай. Сразу отметим активные действия прогрессистов, направленные на сохранение сложившегося в регионе статус-кво. Они призывали царское правительство проводить более осторожную и сдержанную политику. Следуя этой тактике, прогрессисты раскритиковали законопроект правительства о строительстве Амурской железной дороги. Как они полагали, это «неизбежно повлечет за собой продолжение пагубной для России дальневосточной политики. Это втянет нас опять в авантюру, последствия которой могут быть еще более грозны, чем только что пережитые. Такая пагубная политика отвлечет нас не только от внутренних задач, но и от гораздо более исторически важных задач на Ближнем Востоке и в Европе»22.
Не менее резко прогрессисты критиковали и русско-японское соглашение 1907 г., полагая, что ориентация на Японию бесперспективна в силу того, что «возбуждает против нас Китай и портит наши отношения к Соединенным Штатам»23. Исходя из этого, прогрессисты настаивали, чтобы правительство занялось немедленным укреплением дальневосточных границ России. Они предложили даже конкретные меры, направленные на это: обеспечение исключительного преобладания России в тех районах, которые имеют стратегическое значение для защиты государственной границы; сохранение тех районов, которые бы могли служить в будущем целям колонизации; обеспечение преобладающего влияния России на тех направлениях, на которых возможна постройка рельсовых путей для связи с железнодорожной сетью Восточной Азии; обеспечение преобладающего влияния в тех районах, которые могут питать эти рельсовые пути; сохранение за Россией Приамурья и обеспечение за ней первенствующего положения в прилегающих пограничных районах Северной Маньчжурии»24.
Понятно, что прогрессисты полагали, что Россия не должна отказываться от своей политической и культурной роли в Азии и должна расширять там свои традиционные рынки. Вот почему, когда в 1911 г. в Китае началась революция, прогрессисты оказались в числе тех политических сил России, которые требовали от правительства незамедлительно приступить к решению дальневосточных проблем, пока Китай еще слаб и не успел превратиться в великую державу. «Утро России» в этой связи писала о необходимости раздела Маньчжурии и аннексии ее северной части в период конфликта с Китаем из-за нового торгового договора в 1911 г25. На страницах газеты высказывалось требование воспользоваться чужой слабостью и уметь получить свои выгоды и закрепить свое положение, «ибо в противном случае последний благоприятный случай для урегулирования нашей дальневосточной проблемы может быть упущен и не использовать его было бы преступлением перед Россией»26.
Таким образом, позиция прогрессистов относительно дальневосточного направления и Китая носила агрессивный, захватнический характер. В его основе лежало их понимание России как евроазиатской державы, что требовало от нее господства и в Азии, а также торгово-экономические интересы как страны в целом, так и ее делового сословия.
В подобных взглядах прогрессистов отчетливо прослеживается сентенция враждебности Европы к России, в основе чего лежали соображения экономического характера. Крупная русская буржуазия осознавала свою отсталость и неконкурентоспособность на мировых рынках. В этой связи прогрессисты полагали, что России надлежит встать спиной «к враждебной ей Европе» и постепенно перенести центр тяжести политических и торгово-экономических интересов в Азию. Россия, в видении прогрессистов, в силу естественного тяготения к Азии и после сплочения с нею славянства должна со временем образовать особый культурно-исторический тип государства. Ей следует приблизить к себе монгольские государства, которые образуются после распада Китая, и планомерно осуществлять задачу объединения славянства с азиатским Востоком на почве совместной борьбы против общего для всех врага – агрессивного германизма.