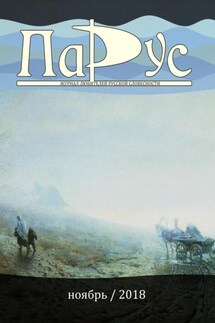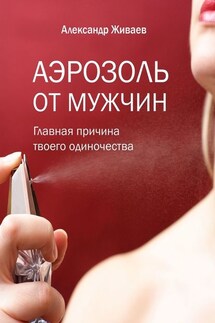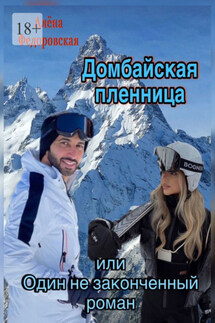Журнал «Парус» №69, 2018 г. - страница 22
С интересными и содержательными докладами выступили как известные исследователи и практики (доктор философских наук, профессор кафедры литературы МГИК Н.И. Неженец; зав. кафедрой специального фортепиано МГИК, профессор В.Ф. Щербаков; доктор искусствоведения, заведующая кафедрой философии, истории, теории культуры и искусства Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке А.Г. Алябьева; доктор педагогических наук, директор Высшей школы музыки им. А. Шнитке РГСУ Н.И. Ануфриева; доктор филологических наук, профессор кафедры литературы МГИК И.В. Калус; доктор философских наук, профессор Е.М. Шабшаевич; доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики МГИК Т.Е. Сорокина; кандидат философских наук, директор Института искусств и художественного образования Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых Л.Н. Ульянова; доктор филологических наук, профессор кафедры литературы МГИК Я.О. Гудзова; доктор педагогических наук, профессор МГИК Г.А. Иванова; член Союза писателей России, доцент кафедры журналистики МГИК А.А. Бобров; кандидат искусствоведения, преподаватель РАМ им. Гнесиных А.Л. Резник), так и аспиранты, магистранты и даже студенты. В частности, студент 1-го курса кафедры журналистики МГИК А. Елесин.
При подведении итогов конференции на круглом столе все участники были едины в том, что русское и мировое классическое искусство есть явление взаимосвязанное, синкретическое, где различные виды и жанры во многом дополняют и более глубоко раскрывают друг друга.
Евгений ЧЕКАНОВ. Горящий хворост (фрагменты)
КОКОН
Как рождаются вновь? Как встают из могил?
Как обычно. По воле Творца.
Тесный кокон, которым ты так дорожил,
Вдруг рассыплется. Вмиг, до конца.
И над бедной поляной, которую ты
Всю исползал на долгом пути,
Замаячит трепещущий свет высоты…
Ты свободен. Восстань и лети!
Кажется, всё очень похоже: ты всю жизнь ползаешь, подобно гусенице, по своей земной поляне и набиваешь утробу, а затем превращаешься в этакую неподвижную куколку. И, значит, впереди у тебя новая ипостась: через некоторое время ты превратишься в роскошную бабочку и станешь порхать с цветка на цветок, пить нектар и с энтузиазмом совокупляться…
Ан нет! При ближайшем рассмотрении эта аналогия не выдерживает критики – достаточно осознать, что твоему праху, в отличие от живой куколки, суждено истлеть в земле. Ну, или испепелиться в печи крематория.
Мое поэтическое «я» возражает: мол, гусеница, окукливаясь, тоже думает, что она умирает. А она всего лишь окукливается. Гм… во-первых, неизвестно, о чем она там думает. А главное – процесс полного превращения чешуйчатокрылых происходит у нас на глазах, не скрываясь в трансцендентальные туманы. Этот метаморфоз мы можем наблюдать, он доступен опыту, – а вот человеческий метаморфоз, столь любезный моему поэтическому «я», нашему опыту недоступен. Во всяком случае, пока недоступен. А значит, и о нашем бессмертии речь пока можно вести только гадательно.
Мое поэтическое «я» опять возражает: мол, в случае человека речь идет не о бессмертии тела, а о бессмертии духа. Я опять сопротивляюсь: тогда и говорить нужно только о жизни духа. Но ты-то ведь, мое восторженное «я», отождествляешь с жизнью гусеницы – жизнь всего человека, а не жизнь одного только его духа!
Мое «я» опять возражает: а что оно такое, человек, ежели не дух?..