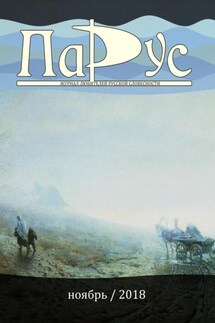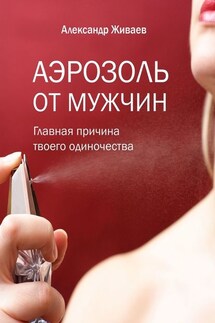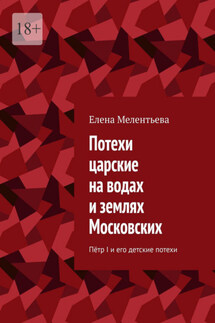Журнал «Парус» №69, 2018 г. - страница 23
В этих схоластических спорах очень легко забыть о том главном, чего из моего стихотворения не выкинешь – о воле Творца. Ведь если Бог существует – а Он существует! – то Его воле всё подвластно, в том числе и наша реинкарнация. А уж как она там происходит – по типу ли «гусеница-кокон-бабочка», или как-нибудь иначе – это дело десятое…
Господи, но почему же мы так жаждем бессмертия? неужели нам мало наших ста лет на Земле?
***
Земную победу судьба стережет:
Ров крут и мосток ненадежен,
И меч окровавленный, встав у ворот,
Чуть что, она тянет из ножен.
Так что же – она всемогуща? Вранье!
Пройди, осторожно ступая, —
И вырви победу из рук у нее!
И пусть она плачет, слепая!..
В юности мне была близка романтика средневековых замков, рвов, мостов, цепей, доспехов, благородных рыцарей и прочей готической белиберды. Мне грезилось, что слепая Судьба стоит у ворот замка с мечом, мгновенно реагируя на каждый неосторожный шорох смельчака, намеревающегося умыкнуть прелестную Победу…
Эти строчки раннего стихотворения отразили мою тогдашнюю инфантильную уверенность в том, что Судьбу можно обмануть, что она не всемогуща. Наверное, многие люди и ныне так считают. Но сам я давно уже убежден в обратном.
ВАХТЕР
За окном горит прожектор, вьется снег…
Померещился вахтеру человек.
Вышел он, звеня ключами, – никого.
Только сердце вдруг застыло у него.
Показалось: из окна глядит вахтер,
На него глядит – а он стоит, как вор.
Нервы, что ли? Он к окошку подошел,
Взглядом комнату знакомую обвел:
Плитка, чайник, стул казенный у стола.
А хозяин, видно, вышел: всё дела…
И на всем пустом объекте – ни души…
Ох, чего не померещится в глуши!
Это стихотворение, написанное в годы студенчества и навеянное впечатлениями от нескольких месяцев подработки ночным сторожем на автостоянке, было моей попыткой поэтически поставить проблему раздвоения личности, взаимоотношений «я» и «не я». Не ведая, что над оным вопросом бились тысячи куда более могучих умов моей планеты, я просто припомнил свои ощущения и попытался воспроизвести их, возведя в нужную для стихотворения степень.
Какие задачи я ставил перед собой? Во-первых, мне очень хотелось поселить в читательской душе, пусть хотя бы на миг, то ощущение «странности» раздвоенного бытия, которое порой посещало и меня самого. Во-вторых, я хотел указать на метод погружения в это ощущение – нужно занять противоположную точку в системе «свой-чужой», поставить себя на место Другого. И еще я стремился показать, что человек не может и не хочет долго пребывать в расщепленном мире – он стремится поскорее вернуться к своему привычному «я», на свою человеческую «вахту».
Увы, никто из прочитавших это стихотворение никогда не сказал мне о нем ничего вразумительного. Решив, что вещь не удалась, я оставил попытки двигаться в этом направлении.
Может быть, и напрасно.
ПУТЬ НА СЕВЕР
Покидаю домашний уют.
– Ничего, – говорю, – ерунда!
Полтора этих года пройдут
И в душе не оставят следа!
Но плывет, словно шумный ковчег,
За окном ярославский перрон,
И молчит, как один человек,
До отказа набитый вагон.
И редеют леса за окном,
И всё чаще – кусты да песок.
И становится в поле темно,
И рассвет еще очень далек.
Хохочу, говорю невпопад,
В зыбкий сумрак смотрю до утра.
А колеса стучат и стучат:
– Полтора!
Полтора!
Полтора!..
В вузе, который я окончил, не было военной кафедры, и поэтому выпускники, не успевшие ранее отдать родине священный долг, должны были после учебы служить не офицерами, а рядовыми. Тут-то им (и мне в том числе) и пришлось хлебнуть горячего до слёз. Ведь тянуть солдатскую лямку «не со своим годом» всегда нелегко, а если тебя, великовозрастного молодого специалиста с высшим образованием, подчас уже отца семейства, отдают в подчинение 19-летним балбесам с двумя-тремя лычками на погонах, то и вообще получается тоскливо.