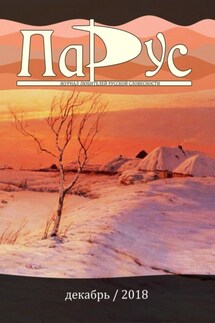Журнал «Парус» №70, 2018 г. - страница 21
Кто виноват в твоих бедах, особь? И будет ли у тебя время что-то исправить?
Но утешься: дело не только в твоей вине. В земной жизни есть еще и судьба, и Божья воля, и ни один мужчина, даже вполне взрослый, не властен над ними. Судьба швыряет его, как щепку, в своих волнах, а Божья воля способна выхватить бедолагу из водоворота и водворить на прочный берег. Или забить под камень, на самое дно.
Гм, – говоришь ты, – но раз так, есть ли смысл взрослеть? Не верней ли будет отпустить свою душу на волю?
Это хороший вопрос, особь. Но тебе нужно помнить, что тот, кто впервые облек данную проблему в чеканную поэтическую формулу, сам понимал взрослым своим умом, что сочинил эту формулу его детский дух, привыкший свободно распоряжаться собой и миром.
Детский дух, особь! А ты уже не ребенок.
Только одно может извинить тебя: ты – поэт. Поэт, артист, музыкант, художник… таким людям издавна позволено вбивать в стену быта свой гвоздь – и вешать на него лиру или маску. Все вокруг тебя, – даже крестьяне, превращенные в рабочих, – понимают, что у такого гвоздя должно быть свое место на стене. Поэтому-то тебя и впускают в пространство меж горкой и комодом.
Итак, разыми себя, половозрелая особь мужского пола, раздели на две неравных части. Первая пусть улыбается, кивает, пьет вино с тещей и тестем, строит дом, растит детей. А вторая, отпущенная на волю, пусть блуждает в земном промежутке, глядит из небес и играет на дудке, и пьет из цветка, и меняет маски, и щиплет струны отзывчивой лиры…
А твой тайный кочет пусть пока посидит спокойно на том же гвозде – и помолчит. До рассвета еще далеко.
СОН О ЗАТОПЛЕННОЙ РОДИНЕ
На дне морском я, весь в слезах, стою,
На родину свою смотрю сквозь слезы.
Сквозь слезы вижу родину свою –
И близкий луг, и пойму, и березы.
На дне морском полощется листва
И гладит ветер спеющую гречу…
Как зелен луг! Как высока трава!
И девочка бежит ко мне навстречу.
Бегом бежит! Я вижу сквозь кусты:
В траве мелькает белая панама.
И узнаю знакомые черты
И, плача, говорю ей: «Здравствуй, мама!..»
Становится нерезким ясный вид
И странный сон бежит за край сознанья.
Далекий взрыв!.. И родина дрожит,
И всё кругом теряет очертанья.
Но девочка – она еще видна,
И светлые глаза полны укора.
«Не плачьте, дядя, – шепчет мне она, –
Нас не затопят. Мы уедем скоро…»
И снова взрыв!.. Угрюмая гроза
На пойму наплывает из-за леса.
На девочку, что смотрит мне в глаза,
Летит дождя тяжелая завеса.
Трещит будильник, странный сон двоя,
Зовет жена, ему привычно вторя.
И, весь в слезах, всплываю тяжко я
Со дна пустого Рыбинского моря.
«Ниночек беленький» – так звал мою маму в детстве ее старший брат Володя. Русая, круглолицая, светлоглазая Нина была младшей дочерью в крестьянской семье Ковальковых, трудно, но дружно жившей в своей родной слободе, в трех верстах от Мологи. Глава семейства, Александр Иванович, работал возчиком в городской артели инвалидов, развозил полученные в Рыбинске продукты по артельным столовым и чайным, а вечерами плел на заказ корзины из ивового прута. Его супруга, Елизавета Ивановна, тоже трудилась в райцентре, на семеноводческой станции. Дети во всем помогали родителям; даже маленькая Нина, забираясь внутрь больших корзин, помогала тяте заплетать днища.
Ковальковы держали лошадь и корову, но еле-еле сводили концы с концами. Однако вступать в колхоз в начале 30-х годов мой дед наотрез отказался, предпочел остаться в артели. Впрочем, к инвалиду империалистической войны агитаторы шибко-то и не приставали: у этого Ковалькова и немецкая пуля в ноге сидит, и локоть отсечен осколком снаряда, – какой с него в колхозе прок?