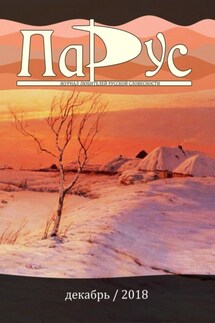Журнал «Парус» №70, 2018 г. - страница 22
В середине 30-х годов по округе впервые пролетел слух о строительстве плотины и о грядущем затоплении Молого-Шекснинской низины. Никто из слобожан в это не поверил; старухи в один голос твердили: «Плотина-то, как бочка: нальют в нее воды – и лопнет». Но в январе 1939 года власть заявила твердо: всё междуречье Мологи и Шексны будет затоплено – переезжайте!
Со слезами на глазах Александр Иванович собственноручно сломал родное гнездо, связал бревна в плоты-гонки и поплыл на них на новое место жительства, в гиблую болотистую жижу селения Старый Ерш, всего десять лет назад присоединенного к Рыбинску. Тут же, на плоту, сидели в шалаше и Елизавета Ивановна, и все дети, и собака Белко; только корову повели по берегу. Маленькая Нина испугалась, когда плот стал опускаться вниз в страшных бетонных шлюзах… слава Богу, она еще не знала тогда, сколько безвинных душ ушло на тот свет при строительстве этих циклопических сооружений, какие великие скорби были навсегда замурованы тут в сталинский бетон!
Сто тридцать тысяч жителей Молого-Шекснинского междуречья власть согнала тогда с насиженных мест, навсегда отняв у этих людей их малую родину. И рана эта болит до сих пор.
Я, потомок переселенцев, так много занимался фамильной историей, так долго вел свои виртуальные раскопки на дне Рыбинского моря, что оно, наконец, стало мне сниться. Но я увидел во сне не мрачное илистое дно водохранилища, а ярко-голубое небо, белопенные волны цветущей гречихи, хоровод берез и огромный, жужжащий, полный запахов разнотравья, заливной Боронишинский луг…
***
Тридцать лет пролетят – мы очнемся с тобой стариками.
Я заплачу тихонько. Обнимешь меня, загрустишь.
Говорить? Но о чем? Всё давно уже сказано нами.
Замолчать? Но зачем? В нашем доме дано уже тишь.
Поцелуешь меня. Вытрешь слезы мне жестом знакомым.
– Время десять уже…
– Я еще посижу. Ты ложись…
И еще три часа просидим над семейным альбомом.
И опять не поймем, что любили друг друга всю жизнь.
Этот вариант судьбы ты отверг. А он ведь тоже у тебя был – и, вероятно, однажды мог бы показаться тебе наиболее верным из всех возможных. Но ты отверг его.
Не на словах, конечно, – на словах-то ты как раз ратовал за то, что воплощено в этих печальных строчках. Но на деле, – всем своим поведением, поступками, мечтами, – ты выбрал другое. И выбрал бесповоротно.
Зачем же ты тогда сочинял эти строчки? Для того, чтобы вербализовать ауру отвергаемого варианта? чтобы самому увидеть то, что могло бы быть, – и отшатнуться? Это был сеанс личной психотерапии?
Но ведь и реально выбранный тобою вариант – уже осуществившийся вариант! – ты не считаешь ни лучшим, ни наиболее верным, так?
Так, так… Но дело в том, что тогда перед тобой открывалась, как тебе казалось, тысяча дорог. В том числе и эта, воплощенная в стихотворении. Но ты отверг ее, выбрав остальные девятьсот девяносто девять…
В итоге оказалось, что ты выбрал одну. Ту, по которой бредешь и сейчас.
А тот вариант, который ты воплотил в печальные строчки, остался жить на бумаге. И в чьей-то душе…
ГНЕЗДЫШКО
Дочери Асе
Вей гнездышко, дочка,
В любой стороне
Из мха и листочка,
Что вечно в цене.
Таскай между кочек
Свою маету,
На мох и листочек
Молись на лету.
Вей нощно и денно,
И в дождик, и в снег.
И верь дерзновенно,
Что это – навек.
Иного расклада
Себе не проси
Ни в сумраке ада,
Ни на небеси.
Такое вот стихотворение я сочинил в начале ХХI века. Это отцовский наказ дочери и, одновременно, мой взгляд на предназначение женщины. Не на сочинение диссертаций и не на полеты в космос нацеливал я свою дочь. Только на витье гнезда.