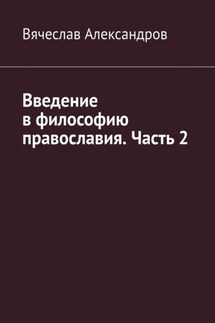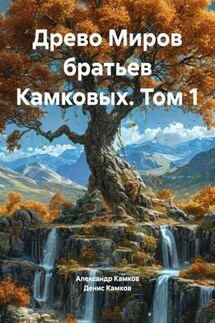Журнал «Парус» №73, 2019 г. - страница 15
О важности Православия для Одоевского так или иначе писали разные исследователи7, однако больше вскользь. П.Н. Сакулин, приводя цитаты из дневников писателя, выдержки из его писем, свидетельствующие о важности религии в жизни князя, подчеркивал внецерковность его духовных исканий и вопреки тому, что Одоевский отдавал явное предпочтение Православию, считал, что «корни его мистики» «все же находятся главным образом на Западе»8. Одоевский действительно глубоко изучал немецкую философию, интересовался трудами по алхимии и кабалистике, однако после встречи с Шеллингом главный вывод сделал такой: «Шеллинг стар, а то, верно бы, перешел в православную церковь»9.
К сожалению, до сих пор в представлении о русской истории и культуре порою господствует мысль, что «православная церковь, сдавленная бюрократическим режимом, не обнаруживала признаков жизни»10 – как в николаевскую эпоху, так и вообще после воцарения и реформ Петра I. Но многочисленные храмы, воздвигнутые в XVIII – начале XX века, труды по богословию, продолжившаяся традиция паломничества по святым местам, мощный пласт лирики христианской тематики, вклад в который внесли даже такие вроде бы далекие от религии поэты, как Некрасов и Фет, красноречиво свидетельствуют о православном духе самой русской культуры, ее кровной связи с «древнерусской литературой, ориентированной на средневековые христианские ценности»11. В последние десятилетия появляются все новые и новые труды по русской истории, культуре, литературе, восполняющие представления о духе Российской империи. И та неистовость, беспощадность, с которой пытались уничтожить эти корни после революции, только подчеркивает их глубину и силу, не утраченную и сегодня.
Православные истоки, давшие саму письменность Руси, так глубоко вошли в ткань русского бытия, что в XIX веке воспринимались как неотъемлемая часть жизни, вплоть до государственных праздников и названий улиц, что непросто осознать людям XXI столетия. В нашу до сих пор еще переходную эпоху при истолковании классики порою важным оказывается «обратный перевод»12 – не так называемая актуальная интерпретация с позиции нового времени, но понимание, продиктованное внутренним миром самих произведений, духом эпохи, их породившей. И.А. Есаулов, размышляя о новых филологических категориях в изучении русской классики, формулирует задачу исторической поэтики исходя из того, «как ее понимал Веселовский: “определить роль и границы предания в процессе личного творчества”», уточняя при этом: «христианского предания», – и обосновывает необходимость «рассматривать поэтику русской литературы в контексте православной культуры»13.
В периодике 1830-х годов отразилась живая жизнь русской истории, движение времени – в ней есть и злободневная проблематика, и отзвуки вечности. И потому изучение творчества Одоевского в контексте конкретных изданий отнюдь не означает стремления замкнуться в «малом» времени публикации произведений, но, напротив, через это «малое» заглянуть в «большое», актуализировать пласты тысячелетней русской культуры, той духовной традиции, которая порою ярче проступает в лирике и публицистике, чем в художественной прозе, особенно у склонного к завуалированности в высказывании своих идей Одоевского. Включаясь в соборный хор русской словесности, князь осознавал свое творчество как органическую часть того живого и животворного предания, на котором зиждется русская культура.