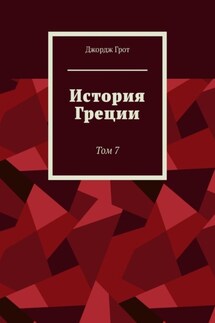Журнал «Парус» №74, 2019 г. - страница 22
Хайдеггеровскую гештальт-структуру с русской ситуацией объединяет сознающее и выговаривающее себя в человеке Бытие, в котором отчетливо проступают уровни, выявленные Гете: мысли, слова, деяния (силы), свидетельствующие об антропологизации (воличноствлении) волящего онтоса [3]. Это устремление от гносеологии к онтологии, от сущностного к энергийному можно наблюдать во многих аспектах явления личности.
«…Энергия может доставить и онтологию, и “интеллектуальное лекарство от упадка сил” (по П. Слотердайку – В.С.). …Ведь ницшевская воля к власти – одна из метаморфоз энергии», – замечает С. Хоружий [4]. Переводя мысль во фрейдовское измерение, подчеркнем религиозно женственное целомудрие «жизни», благоговейное приятие мира Тютчевым и философски мужественное напряжение мысли Хайдеггера как национально-конфессиональные, а не личные доминанты. Не то же ли самое наблюдаем в беседе Алеши и Ивана Карамазовых? Чреватый новым модусом диалог «жизни» и «смысла ее» присутствует у поэта и философа, «андрогинно» осуществляется обоими. Любая метафора хромает, и не стоит придираться к размытости ее граней; в нашем случае важен смысловой центр, ее цельность.
1. Личная цена«живой жизни» в пространстве «бытия-времени».
Быть философом и поэтом означает – ощущать бренность мира; чувство течения жизни присуще всем, человек «конца времен» переживает его особенно остро. И дистанция пространства-времени здесь несущественна: постулировал же Хайдеггер связующую (в противовес разделяющей) природу дистанции. Чувство времени, истории и мифопоэтическое восприятие истечения бытия в вечность определяет его жизнесферу. Философу эхом «отзывается» поэт:
«Вы, – мыслил я, – пришли издалека,
Вы, сверстники сего былого!..»
………………………………..
Но твой, природа, мир о днях былых молчит
С улыбкою двусмысленной и тайной…
«Через ливонские я проезжал поля…», 1830.
Здесь великое былое
Словно дышит в забытьи…
«Тихо в озере струится…», 1866.
Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих – лишь грезою природы.
Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной…
«От жизни той…», 1871.
«Эхо» обертонами как будто бедней живого голоса, и при очевидности «родства» вопрос истоковости (не временной, а бытийной) – кто кому вторит? – остается.
У Тютчева время едва ли не тождественно бытию. Это в нем – от Державина, чье предсмертное «Река времен…» (1816) не могло не пробудить в нем поэта-философа, от космизма орфиков, Гераклита. Поток времени, текучесть водной и порывистость огненной стихий, динамика как конститут и субстрат исхода станут определяющими в его поэтике:
Смотри, как на речном просторе,
По склону вновь оживших вод,
Во всеобъемлющее море
За льдиной льдина вслед плывет.
На солнце ль радужно блистая,
Иль ночью в поздней темноте,
Но все, неизбежимо тая,
Они плывут к одной мете.
Все вместе – малые, большие,
Утратив прежний образ свой,
Все – безразличны, как стихия, —
Сольются с бездной роковой!..