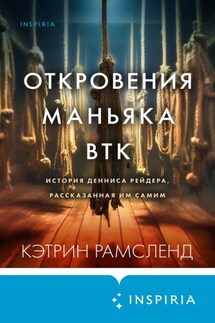Знание психоанализа. Заблудшее означающее - страница 22
Таким образом, в зачатках своего интереса к анализу, в своем намерении обратиться к аналитической практике, в решении ее начать, по ходу ее следования субъект непременно будет поставлен перед лицом «приключений» психоанализа на всех обозначенных уровнях: его амбиций и притязаний, умолчаний и зашкаленного звучания, поступательств и нарушений границ, его конфликтов и коллабораций, его символической капитализации и репутационных издержек. Все это я и называю симптомом психоанализа как субъекта. И этот симптом изначально встроен в симптом того субъекта желания, которым являемся все мы, когда переступаем порог безразличия и праздного интереса по отношению к анализу, начинаем его изучение и даже, может быть, практикование. Еще раз подчеркну, что речь идет о том индивидуальном симптоме, который формируется на входе в анализ, но также и за некоторое время до этого момента – о неврозе переноса, но переноса не на самого аналитика, а на психоанализ как таковой. Конечно, не стоит сбрасывать со счетов, что существуют и те субъекты, которые такого переноса никогда (или до поры) не образуют и в итоге в анализ или не обращаются, или не могут выдержать его сколь-нибудь продолжительное время, не проявляя способности работы в аналитической ситуации. О таких субъектах, конечно, нельзя сказать, что их желание включает в себя желание анализа, однако вопрос о том, почему сегодня таких субъектов становится все больше, также должен быть адресован тому положению, в котором сегодня находится психоанализ как практика, теория и институция.
О других же субъектах, тех, что к анализу и его отзвукам на широкой интеллектуальной сцене не небезразличны, мы скажем как о «субъектах психоанализа», акцентируя его отличие от «аналитического субъекта», которым, как я уже отмечал, является сам психоанализ. Хотя, как было сказано выше, когда речь заходит о сформированном в аналитической ситуации общем структурном субъекте, аналитическом большом Другом, можно сказать, что здесь это различие в определенном смысле упраздняется, создавая обобщенный аналитический субъект, в котором психоанализ, психоаналитик и анализант составляют единое структурное целое. Таким образом, симптом психоанализа как такового включен в симптом отдельно взятого субъекта образовавшего на анализ перенос.
При этом, говоря об этой симптоматической пернициозности психоанализа, правомерно может возникнуть вопрос «Почему подобная злокозненность может выступать – и, более того, несомненно, выступает – в качестве причины переноса? Все дело в том, что именно в этой злокозненности и проявляется работа аналитического желания, в данном случае желания психоанализа как субъекта. Желание в принципе, по самому своему определению, может проявляться лишь в своей предвзятости, неуместности, несвоевременности, нарушении своих же собственных установлений и рамок. Одним словом, аналитическое желание – это тот самый грязный шприц, который заявил о себе во фрейдовском сновидении об Ирме из второй главы «Толкования сновидений». Желание психоанализа – это есть то, что поле самого психоанализа искажает9. Желание всегда неоправданно, возмутительно уверенно в себе, навязчиво и капризно. В общем, оно вызывает вопросы, и именно эта его черта создает почву для образования на его почве и по его поводу переноса. Ведь каков главный вопрос, который по обыкновению не вполне корректно трактуют как вопрос, обращенный анализантом именно и исключительно к своему собственному аналитику (хотя, исходя из вышесказанного, очевидно, что речь на самом деле идет о психоанализе в целом, включая, конечно, и самих аналитиков)? «Что дает ему право занимать это место? Кто гарантирует его бытие аналитиком? На каком основании он позволяет себе отказывать мне, не отвечать, обрывать, указывать на дверь? Кто он вообще такой, чтобы брать такие деньжищи и при этом игнорировать мои нужды и потребности? Наверное, он скрыто садистически наслаждается мной, тем, что вынуждает меня испытывать лишение и страдание? Он просто не знает, что сказать и своим молчанием снимает с себя всякую ответственность. А может быть, он вообще не слушает, что я ему говорю, и думает о своем, спит, «сидит в телефоне»? В кабинете он такой незаметный, а пред очами людскими вон как исполняет! Здесь явно идет речь о какой-то изначальной злонамеренности! Анализант и не подозревает, что именно на этих, отталкивающих и одновременно вызывающих живейший интерес моментах и завязан его перенос – гарант и залог эффективности аналитической работы.