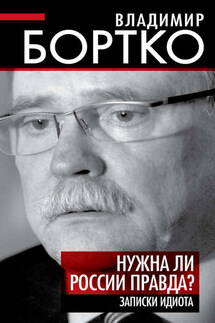Знай обо мне все - страница 18
Мишкину бабушку похоронили в саду, под закоржавившимися листвой вишнями, под которыми до войны мы спали с Мишкой на высоком – с грядушками – топчане.
К смерти людей Савелий Кузьмич всегда относился с ехидцей, что ли. Газету начинал читать с некролога или объявления о смерти. Прочтет, бывало, что кто-то, скажем, упокоился на шестьдесят втором году жизни, скажет:
«А что же ты хотел, милок? Хватит. И так, небось, столько зловредства совершил, что другим бы на два века хватило».
А коль умирал кто-то молодым, бубнил:
«Ну что, не в жилу? То-то. А мы еще поскрипим».
Страсть как любил он опережать всех и во всем, а вот помирать не торопился. Не зря так рысил в щель на четвереньках.
В то воскресенье, двадцать третьего августа, мы с Купой пошли на Мамай. Цели у нас, как всегда, не было. Просто решили взобраться на самую верхотуру. На город оттуда поглядеть захотелось. Увидели – тракторишка «Универсал» какую-то фиговину тащит. Тракторист – пожиловатый, в соколке, мужик – дал каждому из нас порулить. С понятием на этот раз попался. Другие и близко нас к технике не подпускали.
Только мы собрались на Волгу искупаться, как зашлось небо таким гудом, что уши высверливать стало. А в небе сплошная пестрота, как если бы на осенний «сударец» налетел ветер и с него разом сошли все листья.
Первым делом самолеты стали бомбить заводы. «Красный Октябрь», или Французский, как его зовут по старинке, и он утонул в серой – вперемешку с дымом – пыли. Оползают подрубленные бомбами трубы, оставляя над землей обрубки, как изжеванные окурки. Весь «частник» за монастырем горит. Полыхает Дар-Гора.
А один самолет, отвернув от общей карусели, кинулся на Мамай. Стал гоняться за тракторишкой. И дядя Гера – так звали нашего нового знакомого – умнее ничего не мог придумать, как залезть под свой «уник». А летчик как чесанет по нему из пулемета. Наверно, бак с горючкой пробил. Выхватился дядя Гера из-под трактора, запылал и поплелся вниз, к Долгому оврагу. Метров двести, а то и больше бежал. Потом упал. Подскочили мы к нему – близко не подойдешь – да и поздно уже.
Так я впервые видел, как горит человек. Белым, фосфорическим пламенем.
Скатились мы в Долгий. Нашли углубление, что-то вроде пещерки. Как бомба шарахнет. Прямо на дно оврага. А там болото стоячее. Нас грязью вылепило. А взрыв грохнул глухо, и осколки, обессиленные толщей ила и тины, как лягушата, повыскочили к нашим ногам. Высыхая, они шипели.
Посидели мы в пещерке немного, а «сидечка болит», как говорит Савелий Кузьмич. Как же мы не увидим, что на Волге делается. Пошли яром. Глянули и – обомлели. Волга горела почти до середины.
Это баки на нефтесиндикате взорвались. А из ползучего по воде пламени дуги какие-то выплескиваются. Может, рыбы.
Окончилась бомбежка, пошли мы в город, а по нему такой ветер с дымом прет, искрами сорит, каждую головешку раздувает. Сразу стало нечем дышать. Входим в первую улицу и не понимаем, куда попали. Все дома на одно «лицо» – без окон и дверей, с проломами в стенах. Я сделал шаг и споткнулся о что-то мягкое. Отпрянул, поняв, что под ногой труп. Нагнулся, сгорнул штукатурку, девчонка мертвая. Повернул ее вверх лицом: мать честная! Да это та самая, перед которой я пижонил, когда первый раз попал под бомбы. Значит, тогда она выжила.
«Знакомая?» – спросил Купа.
Я не сознался. Какая теперь разница. Вот только звать ее зря не спросил как. Все же обидно уносить с собой память о безымянной девушке, которая умерла, держа в сознании меня. Высокопарно, наверно, сказано, но мысль, примерно такая, у меня была.