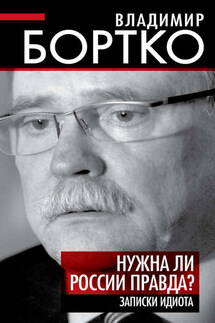Знай обо мне все - страница 19
Домой мы едва добрели. Болела голова. Тошнило. Видно, нахватались мы разного смрада и копоти.
Навстречу мне, чуть прискуливая, кинулась Норма, и я понял: все живы. Так и есть. Савелий Кузьмич стоял на своих ногах, словно бомбежка исцелила его от недуга, а поясничная болезнь сроду не изнуряла тела. А вот мамы дома не было.
«Где мама?» – тревожно спросил я.
«Да иде же ей еще быть, – ответил Савелий Кузьмич, – в своем «дурдоме».
Не знаю почему, но детдомовцев он тоже ненавидел, как врагов народа. Не одобрял он и то, что мама работала с беспризорниками:
«Воров растишь, Егоровна. Головотяпов. Им бы лбом дрезины останавливать, а не науку в башку вдалбливать. Дармоеды!»
О чем бы он ни говорил, всегда все на харчи сворачивал, словно желудком единым жив человек.
He пришла мама ни к вечеру, ни на второй день. Я бегал в детдом, но на его месте только прикопченные развалины остались. Одни утверждали, что детдомовцев эвакуировали за Волгу, другие говорили, что они все погибли. Я носился целыми днями по городу, разыскивая знакомых. Но и они тоже как в воду канули.
Чем питалась в ту пору Норма, не знаю. Но я ее не кормил. Может, что перепадало от Савелия Кузьмича. Кто его знает. У него часто так бывает: говорит одно, а делает другое.
И вдруг – по городу слух: немцы на Мокрой Мечетке. Кто не верил, бегал глядеть. Мы с Мишкой, конечно же, в их числе. Залезли на какую-то недостроенную трубу. Точно. Танки туда-сюда елозят, и, в открытую, ходят солдаты, вокруг дымящихся кухонь гуртуются.
А берегом Волги идут им навстречу рабочие. Строем, совсем как бойцы. Только – кто в чем. И оружие почти все неуставное: рядом с винтовкой дробовик, а то и пика, на заводе сработанная.
А еще через несколько дней загрохотало по-настоящему. И уже без слухов знали все, на какой улице немцы, а на какой наши.
Когда бой приблизился к нашему поселку, Савелий Кузьмич говорит нам с Мишкой:
«Двигайте за Волгу, ребятки. Не будет тут мугуты».
А у меня на язык наметывались язвительные слова: мол, давно ли говорил: «Вот придут немцы, наведут порядок, до тощачка погоняют нынешних дармоедов». Так вот дождался?
Мы сидели в щели, и земля под нами все время шевелилась. К гулу и пальбе мы как-то безболезненно попривыкли, а вот к тряске под боком – никак не привыкнем.
«Как стемнеет, – напутствовал Савелий Кузьмич, – к сестре моей на Нижний переберетесь. А оттуда – в Слободу».
Я знал, где живет тетка Матрена, – увечная, еще не старая женщина. Руку ей на заводе какая-то машина отжевала.
Тюнули мы во тьме, если таковой можно назвать всплески ракет и огни пожарищ. До тетки Матрены добрались без особых происшествий. Передневали в погребе. Ночью сунулись к Волге. А там такая карусель и свистопляска – нас только не хватало. А город, в пожаре, ворочается, как тот тракторист дядя Гера. Жутко издали смотреть.
Неделю провели мы в погребе у тетки Матрены. Потом назад подались. Тетка в крик:
«Там же немцы!»
Вроде сами того не знаем. Но раз душу подмыло выдумкой, хоть и черт ей рад, – а деваться некуда, тут уж упрямство передом бежит.
Пошли ночью. Ярами-буераками блукали, сквозь какую-то арматуру пролезали, по подземному ходу, нам только неизвестному, шли. И перед рассветом оказались у Мишкиного плетня, на котором его бабку «сушить повесили». Я еще успел подивиться: дом сгорел, а плетень остался. Как заколдованный. Задами доползли до нашего дома. У крыльца часовой вышагивает. А уже сереть начало. В окнах же Савелия Кузьмича черно, как в желудке у негра. Мы к щели подобрались. Там никого. Выглянули и поняли: уходить поздно. Развиднелось.