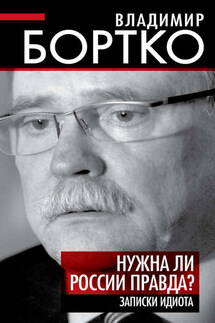Знай обо мне все - страница 21
Немцы ели и над чем-то смеялись. За столом сидели только офицеры. А тот, что говорил с нами, притулился к подоконнику и там, кажется, потаясь, жевал, обжигаясь, картошку.
По двору, я видел, слонялись солдаты. Один из них жонглировал сырыми картофелинами, другой, прислонив ко рту губную гармошку, все же на ней не заиграл. А только делал вид, что наяривает веселую мелодию. Третий что-то вытесывал маленьким топориком.
После еды офицеры некоторое время сидели в задумчивости, пока тот же – неопределенного звания – не сказал им что-то. Тогда они стали переглядываться, улыбаться. И вот тот извлек из чемодана бутылку водки. Наливал себе каждый сам. Толстяк, с пересеченной шрамом губой, плеснул побольше полстакана. Остальные трое – лишь прикрыли донышко. Пили, не чекаясь. И тут снова выхватился тот, что достал бутылку. Он – из того же чемодана – выудил фотоаппарат, стал сноровисто щелкать, но только до того момента, как толстяк поморщился. Потом он так же ловко спрятал аппарат и опять отошел к окну.
«Денщик, наверно», – обжег мне затылок шепотом и дыханием Мишка.
Мне разговаривать было рискованно, потому что моя морда была на всеобщем обозрении. Но меня разбирало зло. Все это время Савелий Кузьмич стоял на полусогнутых, «ел глазами» офицеров и называл их не иначе, как «господа майоры». Он пытался угадать любое их желание, бегал как мальчишка, и даже не верилось, что всего несколько дней назад он, будто кутек, нырял в щель на четвереньках.
Окончательно сомлев, сползли мы с печки лишь тогда, когда немцы улеглись в зале отдыхать, а здесь – в передней хате – примостились на табуретках два солдата, с автоматами наизготовку.
«До ветра мальцам можно?» – спросил одного из них Савелий Кузьмич и для наглядности показал, что это такое.
Немец кивнул, и мы все трое выскользнули в чулан. Но не во двор пошли, а в кладовку, где у Савелия Кузьмича ларь был с разным барахлом, которым он торговал на базаре или обменивал в селе на продукты. Он долго шарил в этом ларе, шепча свое извечное:
«Прости мя грешного, так твою мать», пока не выудил что-то тяжелое и не взял мою руку в свои горячие шершавые ладони. Почему-то их я помню больше всех! Даже лицо его – с бесчисленными созвездиями родинок – стал забывать. А вот руки – так, кажется, и держу по сей день в своих холодных, несмотря на то, что только что слез с печи, ладонях.
«Знаешь, что это такое?» – шепотом спросил он, водя мои пальцы по чему-то скользкому.
На ощупь даже приблизительно не мог я понять, что это могло быть.
«Мыло» помнишь?», – навел он меня на мысль о наших совместных мытарствах, и меня бросило в жар. Как же я это забыл? Всучили нам как-то солдаты вместо мыла ящик с толовыми шашками.
«А вот это, – он провел мне по щеке каким-то крысиным хвостом, – запал».
«Бикфордов шнур?» – спросил я.
«Он самый».
«Ну и что ты думаешь делать?» – еще не угадав его намерений, полюбопытствовал я.
«Хочу спеть ими: «Пора кончать балаган, дармоглоты!»
Помнил я такую его песенку. Слова и музыку, наверно, он сам придумал, потому что ни смысла, ни мелодии в ней особого не было.
«Но ведь шнур слишком короткий, – предупредил я. – Тут и пяти шагов не успеешь сделать».
«А я никуда идти и не собираюсь, – ответил Савелий Кузьмич. – Тут мой дом, тут моя могила. Как у Авдотьевны, у Мишкиной бабушки».
«Не дуракуй», – пытался я отговорить старика. Но он уже был на той степени упрямства, о которой сам говорил: «Хоть уваляться, да не поддаться», когда любой довод, будь он самым веским, действовал на него, как на козла шуба, вывернутая наизнанку.