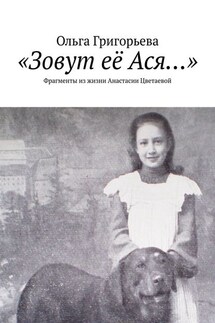«Зовут её Ася…». Фрагменты из жизни Анастасии Цветаевой - страница 7
Слова Анастасии, посвящённые второму мужу, звучат как молитва: «Сию страничку жизни пресловутой моей – я посвящаю Вам, Маврикий Александрович, друг мой, спаситель и защитник от людских нареканий, дабы могли Вы, проникшись ею, лучше знать непонятное сердце моё, которое кладу в дне сем в Ваши руки – дабы благостно ко мне отнеслись и оценили веселие – поступки смешные и недостойные, гордостью зело переполненные…».
О сыне Алёше такие строки в романе «Amor»: «…Очень лёгкие кольца кудрей, золотистых – надо лбом и над ушками… Алёша был весёлый ребёнок! Совсем здоровый. Зачем нужна его смерть? Где он? Тело в земле. Его смех? Голосок! Его ласковость! Его остроумие! Уронил яйцо, разлилось. Он смеялся, кричал „а-а!“. Где это всё? Не в могиле… Но рассудок диктует отсутствие Бога, невозможность жизни не в теле».
В этом же романе – воспоминание о том, как через два года она пришла на могилу сына: « – Алёшенька, сыночек мой!.. позабытый… – спотыкаясь, проговорила Ника (героиня романа – О.Г.) … и упала на колени, на сухую пустыню земли, и, поцеловав землю, легла на неё, как ложится пёс на могилку хозяина, у почти сравнявшегося, выветренного холма с маленьким покосившимся крестом. Она встала, когда потемнело. В небе были кроткие звёзды. Спокойная, всё решившая. Алёша, маленький, нигде не сущий – встретил, утешил, научил лучше всех, её утешавших».
Смерть Алёши осталась раной на всю жизнь… Многие «странности» Анастасии Ивановны (по отношению к внучкам), о которых вспоминают павлодарцы, вполне объяснимы этой страшной потерей. Ольга Трухачёва рассказывала, что бабушка не позволяла им с Ритой есть ягоды или фрукты, пока не обдаст их несколько раз кипятком и не доведёт до кашеобразного состояния. Это вспоминают и Ритины одноклассницы, которые, ясное дело, беззаботно ели малину прямо с куста, немытую. Но у бабушки Аси перед глазами стояли ягоды, которые съел Алёша…
Глава 3. Эллис и Нилендер
«…Метёт и метёт метель жизни», – писала А. Цветаева в «Московском звонаре». …Привычно скользят беговые коньки, Анастасия Ивановна описывает круг за кругом по павлодарскому катку, оставив позади внучку Риту с подружками… А, может быть, ещё один конькобежец вспоминался ей в те минуты – незабвенный Эллис (Лев Львович Кобылинский), поэт и переводчик, друг юных сестёр Цветаевых, первый «настоящий поэт», встреченный ими? Вот его стихотворение «На коньках»:
Сегодня по льду весело скользя,
Я любовался, я шутил с тобою,
То, может быть, опять судьба моя
Безжалостно смеялась надо мною,
А я скользил, и улыбался я…
Мелькали тени вдруг, мелькали хлопья снега
Кружась, как наши робкие мечты,
И, радостно смеясь в пылу разбега,
Вся – красота, и грация, и нега
Неудержимо ускользала ты.
(Эллис, «Неизданное и несобранное», Томск, «Водолей», 2000.)
Марина Цветаева напишет о нём потом в эссе об Андрее Белом: Эллис – «переводчик Бодлера, один из самых страстных ранних символистов, разбросанный поэт, гениальный человек…».
Сёстры проводили с Эллисом вечера, а иногда и ночи, слушая его вдохновенные монологи. Часто под утро шли его провожать. Валерия Цветаева вспоминала: «Чтобы помешать таким проводам, отец уносил из передней пальто. Но это не помеха: Ася, на извозчичьей пролетке, забыв о всяком пальто, с развевающимися волосами, таки едет провожать… Какие тут возможны уговоры?».
«Расставшись с Эллисом, девочки с трудом возвращались „на землю“, к гимназии, урокам – прозе дней. Высший накал этой дружбы пришёлся на весну 1909 года, когда Иван Владимирович уезжал на съезд археологов в Каир, и Марина с Асей чувствовали себя дома абсолютно бесконтрольными». (В. Швейцер.)