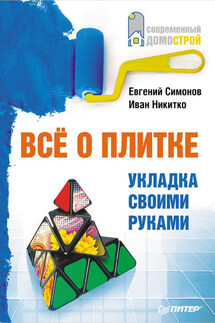1983-й. Мир на грани - страница 40
Операция РЯН относилась к категории агентурно-оперативных операций и предполагала разведку путем непосредственных контактов с источниками информации. Существовали и дополнительные варианты радиоэлектронной разведки, но в таком случае КГБ и ГРУ полагались на наблюдения своих оперативников. В некоторых случаях признаков было крайне мало. Например, резиденту КГБ в Хельсинки просто велели докладывать о любых признаках эвакуации посольства США или сообщить о том, закрываются ли американские компании. В других странах, которые, как считалось, будут играть наиболее заметную роль в нанесении военного удара, агентов просили выявлять любые признаки мобилизации. Им сообщили, что в их планах мероприятий на 1982 год эта задача должна стать первоочередной[96]. За первый год количество показателей значительно выросло, в результате КГБ составил перечень из 292 таких «признаков напряженности». Девиз операции выражался в словах «Не просмотрите».
Факт начала операции РЯН был подтвержден в ежегодном отчете КГБ за 1981 год, предоставленном Андроповым Брежневу. В этом отчете Андропов утверждал, что КГБ осуществил «меры по усилению разведывательной работы в целях предупреждения возможного внезапного развязывания противником войны». Для этого агентами «активно добывалась информация по военно-стратегическим проблемам, об агрессивных военно-политических планах империализма [Соединенных Штатов] и его пособников»; «повысились актуальность и эффективность активных мероприятий по линии разведки»[97].
От агентов стало поступать так много отчетов, что в Москве, в Центральном управлении КГБ, была создана компьютерная программа для обработки потока всей информации. Скорее всего, это была простая и, видимо, довольно примитивная программа, распределявшая информацию по разным категориям в соответствии с ее относительной значимостью. Например, при выявлении признаков приведения военных баз в состояние максимальной боеготовности наибольшее значение придавалось информации о сборе запасов консервированной крови или об освобождении больниц. Привлекательность подобной системы заключалась в том, что она, как казалось, давала научную основу для понимания и интерпретации различных, а иногда и обескураживающих данных разведки. Однако способность советской компьютерной технологии справиться с анализом данных в таком масштабе вызывала явный скептицизм. Начальник восточногерманской службы внешней разведки в служебной записке писал, что, если судить по уже имеющемуся опыту, «в СССР существует опасность неисполнения программ вычислительной системы». Он просто не мог поверить, что Советы способны создать сложную компьютерную программу[98].
Может быть, именно поэтому в одном из сверхсекретных центральных залов Главного управления КГБ в Москве был изобретен альтернативный метод демонстрации собранных разведданных. Это была более «старая технология», представленная стоящей посреди зала большой плексигласовой доской, на которой наглядно демонстрировалось происходящее. На боковой части доски, сверху вниз, были перечислены пять главных критериев, по которым велось наблюдение; наверху были перечислены основные находившиеся под наблюдением страны, разделенные по степени серьезности выявленных показателей. Всякий раз, когда сообщали о новом показателе, свидетельствующем о приготовлениях к нанесению удару, на доске фломастером рисовали крест. Представление о степени опасности ситуации высокопоставленные сотрудники КГБ могли составить в любой момент, всего лишь взглянув на доску и подсчитав, сколько на ней крестов. Чем больше было крестов, тем, следовательно, больше было и показателей, о которых поступили донесения. Это было просто, но руководителям советской разведки, судя по всему, нравилось, что данные демонстрируются именно так