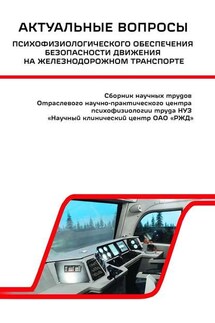Актуальные вопросы психофизиологического обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте - страница 26
А, если эстетика, бомонд? Тут критерий один – чтоб по вкусу, чтоб понравилось.
А вкус, как известно, параметр шаткий. Здесь главное – угодить. А если точки над всеми «i» расставлять, да глаголом жечь, говорить одну правду, то, когда и кому это нравилось. Даже в технике.
Отсюда и трудности восприятия этой самой правды. Да и способы преодоления этих трудностей.
Ведь, если правда голая, то её легко и в порнографию списать, а поборника, соответственно, в маньяки.
Так и списывали. Основных учителей. А без учителей какая школа?
Я не знаю учёного, который бы чурался художественной литературы и не имел бы по прочитанному собственного мнения. И мнения не на публику, – чтобы выглядеть, а мнения-для-себя, дисциплинирующего страсть и воображение, без которых невозможна ни формула, ни теорема, ни закон. Но я встречал работников «культуры», не прошедших школу жёсткого мышления.
Дело опять же не в незнании. Его всегда можно восполнить. Дело в воинствующем самомнении о сверхдостаточности того мизера, что сложился под прической. В отсутствии стремления развивать, напрягаться ещё и ещё. Быть постоянно готовым к диалогу и не утомляться в первые семь минут общения, не всегда достаточных даже для уточнения терминологии. Я уже не говорю о продуктивной дискуссии без переходов к эмоциям и на личности. С брызгами.
Наука такая же мощная опора здания общечеловеческой культуры, как и всё остальное. Думается, что опора даже главная. И пока в понятие общей культуры не будет входить способность необходимо долго поддерживать конструктивный диалог в жёстком временном режиме с учётом всех областей знания, нам придётся с сожалением наблюдать как в Петербургской Лавре какой-нибудь «интеллигент», помочившись у мстительно заткнутых в угол надгробий великим Эйлеру и Ломоносову (подарившим ему то, без чего нельзя существовать цивилизованно) с благоговением во взоре спешит с цветочком к камню Гончаровой Натальи.
Так что, если говорить о смысле нашего бытия сегодня (о чём мы собственно уже и говорим), то надо знать и Пушкина, и Толстого, и много больше, чем они, и много больше, чем учёные в их время, а лучше всего – все что знает человечество на текущий день. О чём, к великому сожалению, остаётся пока только мечтать. Хотя возможно – только пока.
И надежды здесь не только на науки естественные.
Конечно, о понятиях можно и нужно говорить много больше. Мы выделили лишь ту мизерную часть, без которой понимание задач и решений этой книги будет крайне затруднительным или просто невозможным.
И, конечно, это наша не последняя понятийная экскурсия, но уже достаточная, чтобы перейти к главам следующим, где и рассмотрим несколько достойных понятий, требующих отдельного обсуждения.
Глава 2. О БИБЛИИ
Так почему именно слово «библия» использовано в заглавии нашей книги? Ведь ещё в школе учили, что наука и религия – суть два антипода. С одной стороны – борьба за реальное, земное, за всё лучшее, что человек может изобрести и построить сам без необоснованных надежд и беспочвенных прогнозов. С другой стороны – опиум народа на этом свете и иллюзорное счастье без труда и забот на том.
Тем не менее, это понятие выбрано не напрасно. И конечно не потому, что оно наполнено божественной содержательностью, освящено божьей благодатью или источает его духовность.
Подход будет утилитарным – как всё от науки. И потому понятие «религия» нам предстоит использовать как нормальное рабочее понятие, – как форму, в которой истина, как её содержание, должна быть