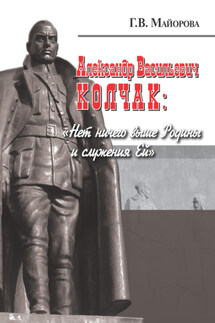Александр Васильевич Колчак: «Нет ничего выше Родины и служения Ей» - страница 72
Но выхода у Колчака не было: сквозь льды и торосы он мог пройти только на таком малом суденышке, способном двигаться и на веслах и под парусом, которое можно и волоком перетаскивать через песчаные косы, и толкать перед собой, словно телегу, и двигать, будто шкаф, боком. Никакое другое судно для такого плавания не годилось: крупное застрянет, сделается неуправляемым, маленькое будет незамедлительно раздавлено льдинами.
Вельбот шел на север, к о. Беннетта. В его квадратный крепкий парус по-прежнему дул южный ветер. Он то ослабевал, то, переведя дыхание и набравшись сил, крепчал, но главное, не менял направления, тянул строго на север. Колчак видел, как за несколько дней люди пришли в себя: в глазах появился живой блеск, переставшие разгибаться от непосильных нагрузок руки отмякли, лица украсились слабыми улыбками, в разговорах появились шутки и обычное подтрунивание.
Александр Васильевич в разговорах, как всегда, принимал участие редко. Чаще всего он выполнял обязанности рулевого и внимательно вглядывался в холодную зеленоватую глубину. Отвлечешься – и проглянет вдруг из этой бутылочной воды бок какой-либо подводной скалы или просто неведомо куда плывущей льдины; а можно наскочить на лед («приглубый»), который за столетия превратился в камень. В любом случае – все это верная смерть. Колчак прекрасно понимал – если с ним что-то случится, все будут обречены – помощи им ждать неоткуда.
Иногда солнечные лучи становились воистину лечебными. Это случалось, когда около вельбота вырастала тянущаяся к небу зеленоватая ледяная стена, сколотая по всей высоте. В срезы попадали лучи солнца, внутри ледяных скол что-то оживало, вспыхивало чем-то дорогим, шевелилось, зачаровывало зрение. Это было настолько красиво, что невольно перехватывало дыхание, и приходилось ладонью прикрывать глаза – можно было их обжечь.
Колчак видел, как моряки «осторожно замирали, моргали глазами, стараясь сбить с коротких ресничек внезапно выступившие слезы, и произносили восхищенно: О-о-о-о!». Александру Васильевичу же иногда в такие минуты вспоминался февраль, солнечный Иркутск и зимняя переправа через Ангару, белоснежную, сверкающую, «украшенную» ледяными торосами, своеобразными миниатюрными арктическими айсбергами. И как тогда в Иркутске, его охватывало какое-то особое состояние. Чувствовалось, что «усталость, делающая все тело чужим, вялым, неповоротливым, отступает, стараясь спрятаться где-то в глубине мышц, в костях, движение становится легким».
И в очередной раз этот с виду всегда немного угрюмый, поглощенный, казалось, только собственными переживаниями и мыслями человек щедро открывал свою душу навстречу этой северной красоте, удивляясь, «как же способна малая толика радости, каких-то два жалких лучика света преобразить мир! Только что он был угрюмый, давящий, готовый распластать все живое – неважно, кто окажется под прессом – зверь или человек; и вдруг все это слетело, будто ненужное одеяние».
Опытные полярники уверяют: ничто так ошеломляюще не действует на человека, как Север, – никакая другая сторона света, никакая иная земля. Будто есть в атмосфере Севера какие-то особые волны, особой силы токи, что заставляют громко биться сердце, сжимают горло, в легких прожигают целые дыры, а в душе рождают боль, тоску и порою совсем непонятный восторг…
Так и Александр Васильевич, не очень талантливый стилист, в своих дневниках и отчетах, описывая северную природу, показывает настоящее литературное мастерство. Примеров можно найти много. Вот этот отрывок из первых дней путешествия к о. Беннетта (к сожалению, в не совсем точном изложении): «Облака попрозрачнели, сквозь них на скудную здешнюю землю проливался серый свет, но и его было достаточно, чтобы природа преобразилась, обрела звучные краски.