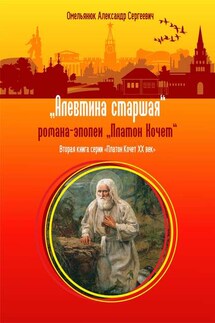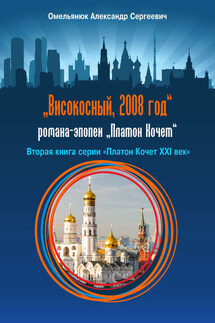Алевтина старшая - страница 34
Но независимо от этого, в силу объективных экономических причин, к двадцатым годам XVII века сельское хозяйство стало оживать. Несколько улучшилось и положение жителей Берёзовки – стали расширяться посевные площади, особенно под посев льна.
Но тяжёлый крестьянский труд, как и прежде, не приносил им достатка. Значительные плоды их труда пожинали помещик и перекупщики-торговцы.
Не выдерживая тяжести поборов, обедневшие крестьяне переходили в бобыли, так как те несли меньше повинностей, но оказывались без земли и ещё более бесправными.
В 1676 году бобыльские дворы в Берёзовке составляли пятую часть.
Но из выживших и приумножившихся после всего этого, в том числе крепостных крестьян Комаровских, через полторы с лишним сотни лет после их переселения в Берёзовку стал Прохор, но теперь носивший фамилию Комаров.
А произошло это в 1693 году после ранней гибели его родителей, когда Проше было всего три года. Крестьяне дальней деревни нашли на лесной дороге плачущего и замерзающего около телеги мальчугана после того, как его родителей убили и ограбили пришлые из муромских лесов разбойники.
На вопрос нашедших его людей: а чей ты мальчик? – испуганный и заплаканный Проша, заикаясь и икая от холода, смог выговорить только:
– «Пьё…ша Кома…ёв…».
Крестьяне мальчугана подобрали и, так и не узнав его происхождения, фактически усыновили. Потому приёмные родители и прозвали малыша Комаровым.
Через несколько лет Прохора, записанного в господские ведомости Комаровым, уже ставшего молодым человеком крупного телосложения и весьма приятной наружности, случайно обнаружили и опознали по родимым пятнам на лице его родственники из Берёзовки. И началась тяжба за него между приёмными и истинными родителями.
– «Ну, какой он, к чёрту, Комаров?! Он ведь на меня похож! Вы только посмотрите на него! Такой крупный и сильный, не суетливый, спокойный и уравновешенный! Да и родинка у него на щеке, ну, как у его матери – моей родной дочери! Что, я не знаю, что ли?» – приводил аргументы его дед.
– «Кем бы он раньше не был, но теперь-то он записан Комаровым и без отечества! И Комаровым навсегда останется!» – объяснял старику бурмистр.
Их спор всё же разрешился разумным компромиссом, но в пользу барина. Некоторое время Прохору приходилось фактически жить на два дома, и практически за двоих отрабатывать барщину – за себя пришлого и за себя прошлого.
Сильный и трудолюбивый, он все дни напролёт был занят работой, в том числе на два своих и не своих дома. И это было очень важно, так как в 1718 году Пётр I ввёл подушную подать, по которой 74 копейки взимались с каждой души, независимо от её физического состояния, как работника. Сельская община теперь должна была вносить подать за всех по списку ревизской сказки. А это были не только работоспособные мужчины, но и младенцы, старики, а также уже умершие и беглые.
Поэтому Прохор много работал, часто уставал и думал, как бы ему это недоразумение всё же выправить. Со временем этот вопрос решился сам собой, но не в скором времени, а после того, как предприимчивые и не успокоившиеся его родственники, в конце концов, с помощью приказчика оженили уже зрелого мужчину в свою же деревню Верхняя Берёзовка.
Поэтому и его первенец Лука появился на свет только в 1726 году, прожив потом до шестидесяти шести лет.
В этот период, с 1724 года, в России начала вводиться паспортная система. В границах своего уезда, но не далее тридцати вёрст от своего двора, крестьянину разрешалось «работою кормиться» при наличии письменного отпуска, выданного приказчиком.