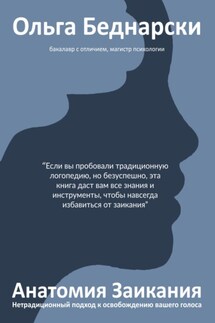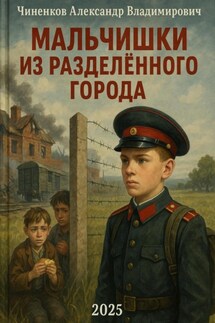Анатомия заикания - страница 34
Вот несколько реальных историй родителей и ЛСЗ:
Моя дочь начала заикаться на некоторых словах. Ей два с половиной года. Раньше она никогда не заикалась. Это серьезно? Может, нам обратиться к врачам? Как это остановить?
Речь у меня появилась очень рано. Я заговорил примерно с девяти месяцев, в яслях был очень активным и разговорчивым. Моя речь была быстрой и четкой. Затем в шесть лет я начал заикаться. Однажды я пришел домой из школы и начал запинаться в речи, возможно, это прошло бы, если бы мама не привлекала к этому столько непрошеного внимания. Она кричала на меня, требуя перестать дурачиться и говорить нормально. Чтобы избежать мучений, я говорил все меньше и меньше. В конце концов у меня развился страх общения.
Я заикалась с самого раннего возраста. Я выросла заикающейся и не помню, когда бегло говорила. В переходном возрасте я искал себя и свое место в обществе, и оказалось, что во многом это произошло под влиянием моей мамы. Она внушила мне мысль о том, что я должна держать голову вниз, говоря: «Не высовывайся, не высовывайся, все блага этого мира не для таких, как мы». Я долгое время жила в соответствии с этой философией. Потребовались годы, чтобы изменить свое мышление и начать жить. Позже мама поняла, что человеку нельзя вечно прятаться от жизни. Нужно говорить с людьми, выбираться из своей скорлупы и делать шаги навстречу новой жизни. Моя мама, наконец, начала избавляться от своих собственных барьеров и это, конечно, положительно отразилось и на мне, ее дочери.
Родители как пример для подражания
Родители служат для детей не только ярким примером социального поведения, но и формируют поведение своих детей через детско-родительское взаимодействия на протяжении многих лет. Было замечено, что не тревожные малыши проявляют тревожное и избегающее поведение по отношению к незнакомому человеку после того, как они увидели реакцию испуга своих матерей.
Тревожное общение матерей с незнакомцем, показанное на глазах у их десятимесячных детей, в дальнейшем предрекало избегающую реакцию малышей в возрасте четырнадцати месяцев.
Предполагается, что в дополнение к неадаптивным поведенческим реакциям, когнитивные предубеждения и интерпретации угрозы, как катастрофы, также подвержены родительскому влиянию и являются критическим фактором в развитии детской тревожности.
Как уже говорилось ранее, родители детей с тревожными расстройствами часто сами страдают от них или от диагностированной, или не выявленной предрасположенности к тревожности, а также растет количество исследований, показывающих, что взрослые с психическими расстройствами демонстрируют совершенно иные манеры воспитания по сравнению со взрослыми, не имеющими проблем с психическим здоровьем.
Тревожные родители могут быть физически более отстранены от своих детей и способны испытывать больше субъективной тревоги, когда их дети играют в не представляющие угрозы игры. Они также могут демонстрировать меньше эмоциональной теплоты, чаще интерпретировать угрозу, как катастрофу, и более открыто критиковать своих детей.
Таким образом, мы видим, что постоянный психотравмирующий детский опыт, полученный под влиянием друзей или членов семьи, может научить детей тому, что социальная среда – это потенциально опасное место, которого лучше избегать.
Дети и подростки интерпретируют жестокое обращение скорее, как причину личных недостатков, а не как последствие незаслуженных издевательств со стороны других, что усиливает социальную тревожность. Они начинают думать, что с ними что-то не так. «Надо мной издеваются, со мной плохо обращаются, потому что я ненормальный/ненормальная». Результатами таких рассуждений являются избегающее поведение, робость, подавление эмоций и чувств, страх перед проявлением собственного «я» и последствиями этого. Такое неадекватное поведение и такая модель мышления могут вызвать то, что люди называют заиканием.