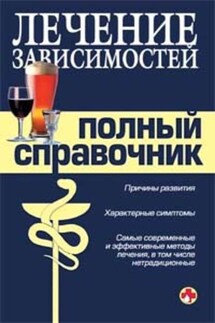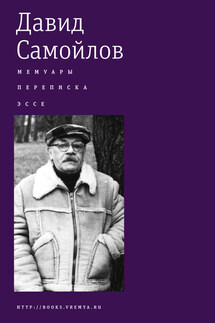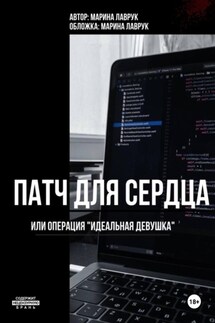Андрей Первозванный – апостол для Запада и Востока - страница 37
Такое обращение к Другому христианство учит понимать не просто как диалог, но как со-причастие, как поворот к новой, евхаристической реальности, раскрывающейся в собыйтиности дара и благодарности. Философское осмысление подобной событийности как феномена человеческой жизни предполагает разработку особого, «постсекулярного» представления бытия, способного впитать конструктивный опыт мысли эпохи модерна и вместе с тем дистанцированного от ее эгологической основы.
Насыщенный упомянутыми бытийными отношениями сопричастности, собственно духовный аспект христианского призвания, первообраз которого являет апостол Андрей, обрисовывается для нас не только как раскрытие «неотмирности» как таковой (см. выше), но и как утверждение возможности экзистенциально укрепиться в этой «неотмирности», обнаружить в ней хлеб жизни (panem quotidianum) – онтологически достоверный источник целостного жизненного смысла. Подлинная духовность воплощается в способности, не отвращаясь от мира, обретать надежную опору для выхода и обращения к нему в сфере Инакового. Подобным образом онтологически насыщенная и обеспеченная духовность позволяет человеку наших дней не поддаваться разрушительным и дегуманизирующим тенденциям «века сего», выстоять, когда это необходимо, против преобладающего течения времени. В этом отношении слово апостола, именно как слово призыва – также и простертый сквозь века жест реальной духовной поддержки, подмоги, насыщающий жест, обращенный к каждому, кто готов на этот призыв откликнуться.
P.S. Поставив точку в своем непритязательном эссе, я, однако, остаюсь при вопросах, которые, возможно, должен адресовать не только собственной совести. Выше шла речь о неизбежности, в связи с проблематикой общения как сопричастности, философской разработки принципиально нового представления бытия, альтернативного онтологии эпохи модерна (с Хайдеггером включительно). Понятия дара, благодарности, жертвенности при этом как будто напрашиваются сами собой и можно, казалось бы, порадоваться актуальности обращения к ним для современного сознания – но вправе ли, в самом деле, основанная на них концепция притязать на новизну и соответствие подлинным запросам нашей современности? Ведь сами подобные понятия, как выразился недавно о. Владимир Зелинский, размышляя, кстати, о «евангелии от Андрея», в наши дни «как-то незаметно ссыхаются, теряют свое душевное наполнение и потихоньку переходят в разряд почтенных… экспонатов отправленной в музей души»[125].
Это «ссыхание» слишком легко объяснить духовным упадком нынешнего мира, однако, думается, нам не следует игнорировать и иную возможность, пожалуй, более грозную с точки зрения перспектив христианства: а что, если в нынешнем отвержении «высоких» понятий христианской традиции есть своя правда? Что, если в этом также сказывается некий реальный исторический и нравственный опыт – опыт невиданных доселе превращений человеческих, пренебрегать которым мы во всяком случае не должны? Тогда, пожалуй, у нас тем более есть веские основания признать, что для каждого нового поколения, каждой новой культурной формации возвещение Благой вести начинается как бы сызнова, в сопряжении с новым, ранее неведомым риском, а значит, и обращение к истокам апостольского служения не может утратить своей живой проблемности, своей нравственной остроты.