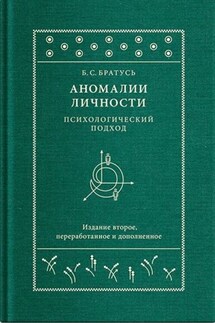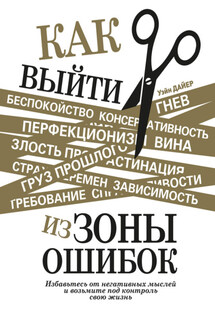Аномалии личности. Психологический подход - страница 63
Ясно, что в реальной психологии развития путь к свободе[151] пролегает через дебри достаточно жестких условий, которые ставит биологическая и психофизиологическая природа человека (см. § 3 гл. II и гл. III), внешние культурно-исторические предпосылки и перипетии и т. д. Приведенные слова Выготского как раз, на наш взгляд, о векторе, последовательности становления личностного начала в человеке через обретенное (постоянно обретаемое) им слово, наполняемое все более высоким (увеличивающим обзор и панораму) смыслом (специально об уровнях смысловой вертикали – далее).
Здесь требуется, однако, некое пояснение. Гётевский Фауст, напомним, формулу «в начале было дело» не изобретает, а дает как свой перевод, свою интерпретацию знаменитого евангельского «В начале было Слово» (Ин. 1: 1). Приглядимся поэтому внимательнее к исходной формулировке, без чего рассуждения о ее интерпретации и переводе будут заведомо неполными.
Евангельская формула имеет в виду, конечно, не само по себе «слово» (при всей его сложности) в обычном значении (с малой буквы), о чем в основном речь в трактовках психологов и лингвистов. В Евангелии «Слово» – это «Логос» (если в переводе с греческого), вбирающий начала и концы, альфу и омегу, определяющий миропорядок, идентифицирующийся с Самим Богом[152]. Но в то же время и слово с малой буквы как микрокосм, отражающий макрокосм, несет в себе зачатки, матрицу своей потенциальный свободы и созидательности. И для Выготского слово с малой буквы не только озвученный знак, важнейший инструмент и опора для человеческих дел и мыслей, но и нечто иное, инопорядковое: «Если даже, – писал он в „Мышлении и речи“, – вместе с Гете не оценивать слишком высоко слово как таковое, то есть звучащее слово, и вместе с ним переводить библейский стих „В начале было дело“, то можно прочитать его с другим ударением…»[153]
«Ударение» Леонтьева замыкает слово в деятельности. Выготского – размыкает (или – если сказать осторожнее – намекает на возможность такого размыкания). Куда, в какое пространство?
«Наше исследование, – пишет Выготский далее в „Мышлении и речи“, – подводит нас вплотную к порогу другой, еще более обширной, еще более глубокой, еще более грандиозной проблемы, чем проблема мышления, – к проблеме сознания»[154]. Ну и она не конечна. «За сознанием лежит жизнь», – любил повторять Выготский.
Спустя почти 30 лет после исследований Л. С. Выготского С. Л. Рубинштейн заканчивает свою последнюю книгу «Человек и мир» (частично опубликованную только в 1976 году, а полностью – лишь в 90-х годах), в которой проступает та же интенция. Напомним уже приведенные ранее слова из этой рукописи: за проблемой психического «закономерно, необходимо встает другая, как исходная и более фундаментальная, – о месте уже не психического, не сознания только как такового во взаимосвязи явлений материального мира, а о месте человека в мире, в жизни»[155].
Ясно, что при последовательной реализации такого подхода, выходящего (претендующего выходить) на категорию жизни, одними «взаимосвязями явлений материального мира» или «физикой» не обойтись. Нужна «метафизика», умозрения, апеллирующие к сверхчувственным образованиям и понятиям – добро, красота, вера, любовь, ответственность. С. Л. Рубинштейн – единственный из признанных психологов советского периода, кто начал (пусть и «в стол», для себя и потомков) это поприще. Л. С. Выготский, ушедший из жизни в 37 лет, – не успел. Можно только предполагать, что он сумел бы показать, как сверхчувственное в психологической жизни соотносится с чувственным, идеальное с материальным, ценностное с потребностным. Наверное, это была бы, как он писал в 1929 году со ссылкой на Полицера, «психология в терминах драмы»