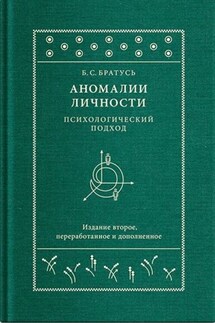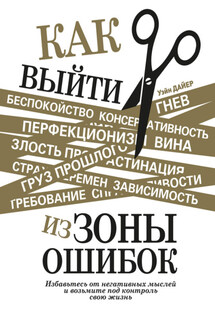Аномалии личности. Психологический подход - страница 64
Деятельность как таковая не нуждается для описания в терминах драмы, тем паче – трагедии. Эти понятия избыточны для нее. Она может быть осуществленной или неосуществленный, успешной или неуспешной, развернутой или свернутой и т. п. Драмой и трагедией (равно пьесой и фарсом) может быть только жизнь человека, проистекающая из его «отданности двум мирам»[158].
Справедливости ради надо отметить, что А. Н. Леонтьев был не единственным, кто усматривал в «словоцентризме» главный недостаток позднего Л. С. Выготского. Сходное мы читаем, например, у А. В. Брушлинского, десятилетия уже спустя после высказываний Леонтьева: «Если субъектно-деятельностная концепция, – писал Брушлинский в 1998 году, – исходит из того, что в начале было дело, то для теории Выготского в начале было слово (хотя он иногда будто бы не соглашается с этим положением из Библии). Гипертрофия (абсолютизация) средств и прежде всего словесных знаков как главных и даже единственных оснований психического развития человека уводит в сторону от теории (изначально практической) деятельности…»[159]
Это, по сути, полное совпадение критики у ближайшего ученика Выготского и у постоянного оппонента последнего (каковым открыто ставил себя Брушлинский) весьма примечательно, поскольку говорит о единстве (и глубокой интериоризации) тех марксистских оснований, на которых в обязательном порядке строились все школы советского периода и которые вели к умалению роли индивидуального сознания, слова, личного переживания.
Можно ли, однако, и сегодня по-прежнему проходить мимо идей, тенденций, фактов, представлений, феноменов, которые не укладываются в марксистские (шире – материалистические) трактовки, но свидетельства, описания которых мы находим с незапамятных времен?
Возьмем для примера лишь ту особую значимость, которая всегда придавалась слову как имени. «Древняя шумерская традиция, – читаем мы у А. И. Шмаиной-Великановой, – говорит о „ме“ человека, то есть о том, что, собственно, есть он сам… Так же понимает „шаму“, славу или имя человека более поздняя аккадская традиция. В Ветхом Завете мы видим, что узнать имя, понять, как зовут, и понять, что это, – одно и то же. Адам дает всем зверям имена. Бог подводит к нему безымянную тварь, а уходит уже не вообще кто-нибудь, а лев…»[160]
Митрополит Антоний Сурожский писал: «Согласно утверждению, которое мы находим как в самой Библии, так и в окружающей Библию традиции, имя и личность таинственны, если имя это произносит Бог. Если мы хотим представить себе все значение имени для личности, которая его носит, может быть, допустимо сказать, что это то имя, то державное творческое слово, которое произнес Бог, вызывая каждого из нас из небытия, слово неповторимое и личное, ни с чем не сравнимое, которое связывает каждого из нас с Богом»[161].
При таком понимании, возвращаясь к коллизии «секретного пакета», – у последнего есть вверивший, вручивший, поручившийся и, следовательно, есть как