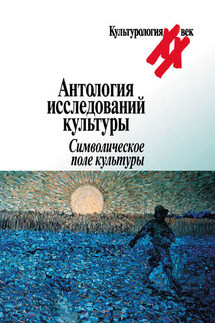Антология исследований культуры. Отражения культуры - страница 2
Большинство исследований об отношении языка и культуры вплоть до недавнего времени делали упор на внешней и совершенно очевидной связи между лексикой и содержанием культуры. Снова и снова отмечалось, что используемая людьми лексика свидетельствует об их культуре и с большей или меньшей точностью отражает особые интересы и значение, которое этот народ придает таким областям своей культуры, как техника, социальная организация, религия и фольклор. Народы, которые, как чирикауа-апаче, живут, занимаясь охотой и собирательством, считают необходимым иметь детальные перечни названий животных и растений, а также точные наименования отличительных топографических признаков среды их обитания. Другие, как аборигены Австралии, которые в качестве средства социального контроля используют родственные отношения, обладают огромным и сложным словарем терминов родства. Существующие у таких народов, как японцы и корейцы, системы рангов и статусов подобным же образом нашли отражение в лексике и даже отчасти в грамматических особенностях языков, как, например, в системе местоимений.
Изучение языков и их словарных составов может быть полезно также для историка культуры. Очевидно, что даже поверхностный взгляд на географическое распространение родственных языков часто позволяет подобрать ключи к определению мест расселения народов в древности и их последующих миграций. Например, изучая ареал распространения в настоящее время индейцев, говорящих на атапасских языках, мы обнаружили восемь-девять основных лингвистических подгрупп в западной Канаде и на Аляске, в то время, как две другие, соответственно, – вдоль тихоокеанского побережья от Вашингтона до северной Калифорнии, а также среди племен навахо и апачей. Вывод здесь ясен: мало сомнений в том, что исходное место обитания этих людей находилось на севере, и что поэтому тихоокеанские и юго-западные сообщества, говорящие на атапасских языках, мигрировали на юг до нынешнего местоположения.
Чтобы проследить хронологию взаимодействия культурных элементов, могут быть использованы, как отмечал Сепир, внутренние лингвистические признаки:
«Язык, как и культура, состоит из элементов разного времени возникновения; некоторые из его черт восходят к непроницаемому туманному прошлому, другие являются результатом недавнего развития и потребностей вчерашнего дня. Если нам удастся связать изменения в культуре с изменениями в языке, мы сможем обрести (в зависимости от обстоятельств, приблизительную или точную) меру измерения относительного возраста элементов культуры. В этом отношении язык предоставляет нам нечто вроде расчерченной матрицы, с помощью которой можно распутывать последовательность изменений в культуре» (1916, p. 432).
Варианты применения этого метода многочисленны; в качестве иллюстрации нам необходимо привлечь внимание только к двум работам: Сепира «Внутренние лингвистические признаки северного происхождения навахо» (1936) и Херцога «Культурное изменение и язык: перемещения в лексике пима» (1941).
Лексика была всецело связана со многими характерными особенностями нелингвистической культуры, существуя как в течение одной эпохи, так и в процессе эволюции языка во времени, поэтому изучение лексики полезно, если не обязательно, для полной и всеобъемлющей этнографической оценки. Но такое использование лингвистических данных и даже очевидная связь между лексикой и содержанием культуры доказывает не больше, чем факт, что у языка есть культурное обрамление. То же самое справедливо в отношении обратной ситуации: лингвист, если ему нужно определить какую-либо лексическую единицу, должен иметь некоторое представление о культуре, к которой она относится. Однако, как отметил Сепир несколько лет назад, «этот поверхностный и внешний вид параллелизма не представляет реального интереса для лингвиста, если только появление или заимствование новых слов косвенно не бросает света на формальные тенденции языка. Лингвист никогда не должен впадать в ошибку отождествления языка с его словарем» (1921, p. 234).