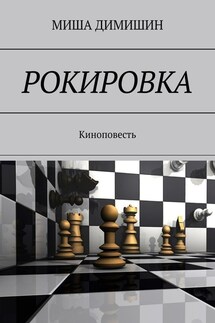Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу - страница 24
>1 International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR): http://www.iscar.org/
>2 Майкл Коул. Культурно-историческая психология, – М.: Когито-Центр, 1997. – 432 с.
>3F. Franz, M. Hagemeister, F. Haney. (ed.) / Pavel Florenskij – Tradition und Moderne, Frankfurt / M., Peter Lang, 2001.
>4 Священник Павел Флоренский. Собр. соч. в 4 т. Т. 3(1). – М.: Мысль, 1999. – С. 185–212.
>5 Б.В. Нечипоров. Времена и сроки. Кн. 1. – Очерки онтологической психологии / Фонд содействия образованию XXI век. – М., 2002. – 189 с. См. также: Б.В. Нечипоров. Психология энергийности и праздничная стихия // Московский психотерапевт, ж. – 1998. – № 1. – С. 187–194.
>6 Ю.В. Громыко. Метапредмет «Проблема». – М.: Пайдейя, 1998.
>7 П.А. Флоренский. Столп и утверждение Истины. – М.: Правда, 1990. – Т. 1.
>8 См. раздел «Христианская психология и гуманитарные практики» в настоящем издании.
>9 См. раздел «Имя рода (история, родословие и наследственность)» в кн.: Священник Павел Флоренский. – Собр соч. в 4 т. Т. 3(2). – С. 7–66.
>10 См. раздел «Творческое наследие Е.Л. Шифферса и его разработка» в настоящем издании.
>11 В.В. Бибихин. Слово и событие. – М.: Едиториал УРСС, 2001. – 280 с.
>12 В.П. Зинченко. Психологические основы педагогики. – М.: Гардарики, 2002. – С. 361–403. О.И. Генисаретский. Навигатор: методологические расширения и продолжения. – М.: Путь, 2001.
>13 И.Г. Фихте. Факты сознания // Сочинения в 2 т. Т. 2. – СПб., 1993.
>14 О.И. Генисаретский. Навигатор: методологические расширения и продолжения. – М: Путь, 2001.
>15 Совершенный человек. Теология и философия образа. – М.: Валент, 1997.
>16 С.С. Хоружий. О старом и новом. – СПб., 2000. См. также раздел «Синергийная антропология» настоящего издания.
>17 Там же. – С. 410–411.
>18 Там же. – С. 394.
>19 Там же. – С. 368.
>20 Б.А. Успенский. Царь и патриарх. – М., 1998. – С. 20–21.
>21 Там же. – С. 14.
>22 Свящ. Павел Флоренский. Собрание сочинений. Философия культа (Опыт православной теодицеи). – М.: Мысль, 2004. – 685 с.
>23 Л.С. Выготский. Исторический смысл психологического кризиса. // Собр. соч.: В 6 т. – М.: Педагогика. – Т. 1. – С. 291–436.
>24 Г.Г. Шпет. – История как проблема логики. Критические и методологические исследования. Часть 1. – М., 1916.
Образ и слово в творчестве П.А. Флоренского и Л.С. Выготского
Ольга Игоревна Глазунова
П.А. Флоренский и Л.С. Выготский – важнейшие фигуры в российской антропологии ХХ века, нисколько не потерявшие своего значения и к настоящему времени. Если творчество каждого из этих авторов по отдельности достаточно тщательно исследовано, то анализ феномена их почти одновременной работы и «параллельности» творчества в области антропологии практически не изучен. Однако данный феномен имеет чрезвычайно глубокое значение для судеб российской антропологии, поскольку в первой трети ХХ века эти мыслители задали альтернативные программы, в соответствии с которыми мог в дальнейшем формироваться тип российского человека. Хотя программа, заданная П.А. Флоренским, была для России традиционной, а «антропологическая матрица», возникшая на основе творчества Л.С. Выготского, была в период своего возникновения для России совершенно новой и, вероятно, модернистской (хотя и вполне соответствовавшей формировавшимся политическим институтам), исторически был реализован путь, заложенный Л.С. Выготским.
Сегодня, в начале нового столетия и в период очевидных изменений общественной системы, а следовательно, и антропологического типа русского человека чрезвычайно интересно сопоставить две принципиально разные, альтернативные антропологические матрицы, определившие кардинальный сдвиг этого типа в начале ХХ века, связанный с событиями революции и построения социализма в нашей стране. Значение такого сопоставления представляет интерес не только для ретроспективного анализа. Оно актуально еще и потому, что позволяет увидеть, какие новые пути возникают при ставшей вновь возможной опоре на те антропогенетические механизмы, которые для русского человека были традиционными до ХХ века.