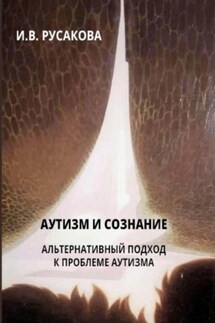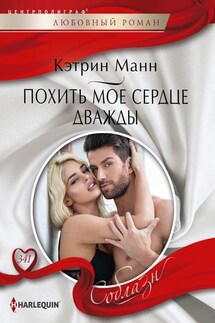Аутизм и сознание. Альтернативный подход к проблеме аутизма - страница 14
Во всех работах, посвященных развитию высших психических функций, включая сознание, Л.С. Выготский подчеркивает, прежде всего, их социальную обусловленность и то, что они формируются прижизненно. В своей работе «Сознание как проблема психологии поведения», в которой Л.С. Выготский касается в большей части физиологической проблемы сознания, он отмечает: «Поэтому следствием принятия предлагаемой гипотезы будет непосредственно из нее вытекающее социологизирование всего сознания, признание того, что социальному моменту в сознании принадлежит временное и фактическое первенство. Индивидуальный момент конструируется как производный и вторичный на основе социального и по точному его образцу» (Л.С. Выготский. Сознание как проблема психологии поведения. – М.: Смысл, Эксмо, 2006. – С. 38.) Именно в этой работе отмечается роль слова в качестве раздражителя, как основного фактора развития сознания, и мы должны понимать, что в развитии ребенка слова выступают как условный раздражитель с первых дней его жизни, что и является основой последующего развития ребенка. Это к вопросу о том, что родители должны разговаривать с ребенком с первых дней его жизни.
Когда мы говорим о сознании необходимо иметь в виду его целостный характер. Причем сознание не просто само по себе целостно, оно интегрирует все остальные высшие психические функции. Вот что об этом пишет сам Л.С. Выготский: «Нужно понять, что сознание не складывается из суммы развития отдельных функций, а, наоборот, каждая отдельная функция развивается в зависимости от развития сознания как целого. Развитие сознания в целом заключается в изменении соотношения между отдельными частями и видами деятельности, в изменении соотношения между целыми и частями» (Л.С. Выготский. История развития высших психических функций. – М.: Смысл, Эксмо, 2006. – С. 552.)
Известно, что у детей с РДА порой удается добиться весьма впечатляющих результатов в развитии отдельных навыков и функций. Однако вся деятельность сводится к автоматическому воспроизведению выученных действий без понимания и осмысления. Поэтому существующие методики, в которых упор делается на развитие отдельных психических функций, не дает значимого качественного результата в развитии ребенка. Даже если у ребенка и появляется речь, то она носит либо эхолаличный характер, либо проявляется в виде неосознанного словесного потока, который к речи, как к высшей психической функции, никакого отношения не имеет. Вот, что писал в своих работах Л.С. Выготский, критикуя, современную в его время установку изучать высшие психические функции изолированно: «Установив взаимозависимость функций и единство в деятельности осознания, психология все же продолжала изучать деятельность отдельных функций, пренебрегая их связью, и продолжала рассматривать сознание как совокупность его функциональных частей. Этот путь из общей психологии был перенесен в генетическую, в которой он привел к тому, что и развитие детского сознания стало пониматься как совокупность изменений, происходящих в отдельных функциях. Примат функциональной части над сознанием в целом остался и здесь в качестве главенствующей догмы» (Л.С. Выготский. Мышление и речь. – М.: Смысл, Эксмо, 2006. – С. 874.) Можно перенести эти положения не только на вопросы изучения функций, но и на существующие коррекционные программы развития, применяемые в современной психологии/педагогике. К сожалению, вынуждена констатировать, что такой подход игнорирования первичности развития сознания у детей сохраняется до сих пор. Вопрос же недоразвития сознания при раннем детском аутизме не рассматривается в принципе.