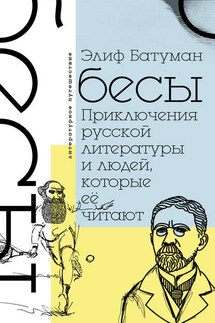Бесы. Приключения русской литературы и людей, которые ее читают - страница 6
Когда я осенью вернулась на учёбу, мне больше не хотелось никакой лингвистики: она меня разочаровала, она ничего не объяснила мне ни о языке, ни о его смыслах. Но я продолжала учить русский. Казалось, русский – единственное место, где можно найти объяснения тому, что со мной произошло. Даже записалась на ускоренные занятия. Через два года – за это время я мимоходом прочла всего семь или восемь романов – мне пришлось готовиться к получению степени по литературе: специализация с минимальными требованиями, если не считать фольклор и мифологию.
Из тех немногочисленных теоретических текстов, которые я прочла как студент-филолог, сильное впечатление на меня произвело короткое эссе о «Дон Кихоте» из книги Фуко «Слова и вещи», где высокий, худой, странного вида идальго уподобляется знаку: «С его длинным и тощим силуэтом-буквой он кажется только что сбежавшим с раскрытых страниц книг»[4]. Я тут же прикинула это описание на себя, поскольку «элиф» – на турецком «алиф» или «алеф», первая буква арабского и еврейского алфавитов, – изображается на письме прямой линией. Родители выбрали это имя, поскольку я была необычайно длинным и тощим младенцем: родилась на месяц раньше срока.
Снова я вспомнила эссе Фуко, наткнувшись на психологическое исследование о склонности американцев выбирать профессии, созвучные их именам. Например, среди дантистов широко представлено имя Деннис, а в рядах геологов и геофизиков – непропорционально большое число Джорджей и Джеффри. В исследовании это явление объясняется «имплицитным эготизмом», «позитивными большей частью чувствами», которые люди испытывают к своему имени. Интересно, есть ли на отделениях стоматологии Деннисы, оказавшиеся там по иным мотивам: из тайного желания подстроить условность языка в тон физической реальности. Возможно, это меня и привлекло в эссе о Дон Кихоте: оно подсказало способ сформулировать в реалиях мира то, что скрывается за моим именем. И это ожидание вполне уместно, поскольку главная идея эссе такова: решив доказать, что он – такой же рыцарь, как персонажи рыцарских романов, и что мир, в котором он живет, – это арена для подтверждения героизма, Дон Кихот выдвигается в путь, дабы найти – или создать – сходства между словом и миром. «Стада, служанки, постоялые дворы остаются языком книг в той едва уловимой мере, в которой они похожи на замки, благородных дам и воинство», – пишет Фуко.
Я поняла, что Дон Кихот разрушил бинарную оппозицию «жизнь – литература». Он жил жизнь и читал книги, он жил через книги, создавая тем самым книгу еще более чудесную. Сам же Фуко между тем разрушил мои представления о теории литературы, но он отнюдь не снижал многогранность и красоту, он их создавал. Интерес к истине пришел ко мне лишь позднее, а вот красота уже тогда стала затягивать меня в литературоведение.
После выпуска я планировала сесть за роман, но роман требует времени, а время дорого. И я предусмотрительно решила подать заявления на докторские программы. Магистратуру искусств не рассматривала, поскольку знала, что там заставят платить за обучение и ходить на семинары. Все мои сомнения насчет пользы чтения и анализа серьезных романов удваивались, если речь шла о творениях детишек вроде меня. Однако я отправила заявление в художественный лагерь на Кейп-Коде. К моему удивлению, мне предложили место в секции художественной литературы – благодаря семидесятистраничной повести, которую я написала от лица собаки.