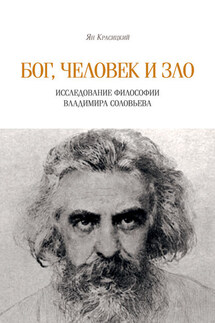философии Соловьева – подобно тому, как и у Платона, – образует его собственный мистический и религиозный опыт, в то время как у Гегеля это то, что Соловьев и критиковал, и отбрасывал как “отвлеченное знание” начиная со своей магистерской работы
Кризис западной философии и далее вплоть до великолепного, хотя и неоконченного труда
Философские основы цельного знания, до докторской работы
Критика отвлеченных основ и, наконец, до последнего, также неоконченного трактата
Теоретическая философия. Самым существенным различием в подходах Гегеля и Соловьева представляется то, что, как пишет об этом Ф. Степун, в рациональных своих построениях Соловьев отнюдь не
пробивается навстречу Абсолютному, а всего только рассказывает то, что он изначально знает об Абсолютном. Для Гегеля Абсолютное есть последнее, высшее
задание философской мысли. Для Соловьева оно есть
первичная, религиозная данность. Вся система Соловьева есть всего лишь логическая транскрипция его религиозно-мистического опыта
[194]. Также и Дж. Л. Клайн в своем исследовании
Гегель и Соловьев, хотя, с одной стороны, утверждает, что “философскую систему Соловьева можно назвать неогегельянской”, однако, с другой стороны, не может возражать против того, что “универсальный синтез” Соловьева проявляется как феномен, отличный от гегелевского “снятия”
(Aufhebung), для которого спекулятивная философия или абсолютное знание доминируют над религией, философией и наукой
[195]. Э. Радлов считал противоречия между “мистицизмом и рационализмом” в философии Соловьева мнимыми и объяснял их установкой самого Соловьева, который признавал “их [философии и религии] тождество по существу и различие по форме”
[196]. В устах Соловьева, когда он называл Аристотеля или Гегеля “рационалистами”, это слово не имело в данном случае никакого положительного значения. Об этом следует помнить всем, кто сравнивает Соловьева с Гегелем или даже пишет о Соловьеве как о “российском Гегеле”
[197].
При исследовании источников софиологии Соловьева можно указать также на еще один, пожалуй, менее всего явный, однако все же имеющий определенную важность: речь идет о такой разновидности софиологического (софийного) сознания, которая является “скрытым” сознанием, всегда имевшим место в традиции как Запада, так и Востока (мистика, поэзия, искусство); его, согласно психологической теории К.Г. Юнга, следовало бы считать элементом не только индивидуального, но и “коллективного (группового) сознания”[198]. Наряду с другими источниками следовало бы вспомнить и мотив Вечной Женственности в Фаусте Гёте. (“Это вечно-женственное возводит нас ввысь, [к небу]”, в немецком оригинале: “Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan“.)[199]
Выражением этого сознания на Востоке является иконопись, которая в православном богословии имеет значение, неизвестное Западу и трудно постигаемое. Кроме своих теологических и эстетических аспектов она собственно является одним из “доводов”… существования Бога. Имея это в виду П. Флоренский писал в своем трактате “Иконостас”, что из всех философских доводов существования Бога наиболее убедительно звучит тот, о котором даже не вспоминают в учебниках. Его можно выразить примерно так: “Есть Троица Рублева, значит, есть Бог”. Если логику автора Столпа и опоры истины распространить на софиологическую идею Соловьева, можно сделать отсюда аналогичный вывод: “Есть икона Софии, значит, София существует”