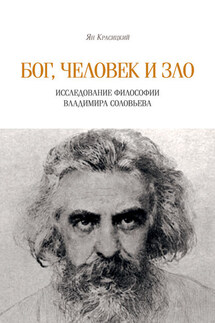Бог, человек и зло. Исследование философии Владимира Соловьева - страница 53
В первой сфере (Воля) все виды бытия остаются в простом и непосредственном единении своей воли с Божеством, в чистой непосредственной любви, пребывают “на лоне Отца”; такие виды естества являются чистыми духами[337].
Во второй сфере (Разум) полнота божественного бытия выявляется во множестве идеальных образцов; это сфера божественного Логоса-Слова, и существа в этой сфере могут быть названы, в соответствии с теорией Соловьева, “умами”.
В третьей сфере (Чувство) бытие оказывается отделенным от единства с Богом, предстает в виде “душ живущих”, мир при этом становится реальным.
В первых двух сферах “Божий мир” еще не имеет полной реальности, поскольку бытие и “чистых духов”, и “чистых замыслов” (“умов”), находясь в непосредственном единстве с Божеством, не существует от него отдельно и не имеет возможности такого выделения. В первой сфере, в сфере пребывания “на лоне Отца”, все виды единства с Божеством сами по себе обладают только “потенциальным бытием”. Во второй сфере созданные посредством Божьего Логоса “объективные образцы” обладают своим отдельным существованием и своеобразием, но это лишь “идеальная” отдельность, ибо она, как и все бытие в этой сфере, основана на мысленном познании, иначе говоря, на “чистых представлениях”[338]. Поэтому только в третьей сфере бытие обретает “свою собственную реальную отделенность”, ибо в “противном случае, – пишет философ, – сила божественного единства не могла бы проявиться” (не имела бы того, в чем она могла бы проявиться).
Можно задаться вопросом: почему и зачем вообще дело доходит до акта творения, до манифестации бытия, почему Бог “выходит” за границы самого себя, за пределы собственного бытия. “Божественное существо, – пишет философ, – не может довольствоваться вечным созерцанием идеальных сущностей (созерцать их и ими созерцаться); ему не довольно обладать ими, как своим предметом, своею идеею и быть для них только идеею; но, будучи “свободно от зависти” т. е. от исключительности, оно хочет их собственной реальной жизни […] Этот акт (или эти акты) божественной воли, соединяющейся с идеальными предметами или образами божественного ума и дающей им через то реальное бытие, и есть собственно акт божественного творчества. […] Итак, вечные предметы божественного созерцания, делаясь предметами особенной божественной воли […], становятся “в душу живу”; другими словами, существа, субстанциально содержащиеся в лоне единого Бога Отца, идеально созерцаемые и созерцающие в свете божественного Логоса, силою животворящего Духа получают собственное реальное бытие и действие” (Чтения о Богочеловечестве. С. 137–139).
Трем фигурам, трем субъектам Троицы соответствуют три момента, три стадии диалектического развития “божественного мира”: состояние статичного, недифференцированного единства (Бог Отец), момент дифференциации и появления индивидуальных форм и способов бытия (Бог Сын) и, наконец, высшая стадия, момент диалектического единства – дифференцированное Всеединство (Бог Дух Святой).
В третьей части своего сочинения Россия и Вселенская Церковь, анализируя отношения между тремя божественными ипостасями, Соловьев дополняет свою теорию анализом понятий “Божественных имен”. Имена, которыми обозначены Божьи ипостаси в Троице, не взяты произвольно и не являются чистыми “метафорами” они отражают реальные отношения внутри Троицы, реальную жизнь этой Троицы. Суть наименований бога, или “Божиих имен”