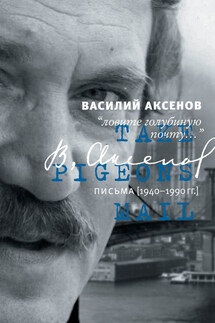Божественный глагол (Пушкин, Блок, Ахматова) - страница 31
Есть, конечно, отдельные примеры, когда память о ком-то подразумевает живущего современника (современницу) поэта: «И ваша память только может // Одна напомнить мне Москву» («Гонимый рока самовластьем…», 1832). Но то легкое альбомное стихотворение, мадригал неизвестной нам юной особе, память о которой всего лишь (хотя и этого не мало!) напоминает поэту о Москве. Совсем другое дело рассматриваемые нами стихи: здесь абсолютно «всё» приносится «в жертву» неизвестной нам избраннице поэта. И по этой тоже причине (по масштабности поэтического порыва) мы склонны отнести пушкинские стихи к умершей: значимость близкого для нас существа в полной мере осознается только после его смерти…
А что значит «в жертву»? Как отметил упомянутый исследователь, ни одно из значений, зафиксированных в «Словаре языка Г[ушки-на», «не подходит для стихотворения “Все в жертву памяти твоей” в целом»[121], предполагать же, что «в пределах одного предложения (а именно им является данное стихотворение) Пушкин придавал выражению “принести в жертву” разный смысл»[122], вряд ли допустимо. Поэтому он предложил свой эквивалент пушкинского «в жертву»: «Это – “пренебречь” с близкими к нему у Пушкина эквивалентами “перестать придавать значение”, “забыть”»[123]. Но с получившимся в результате прочтением пушкинского текста как-то трудно согласиться.
Вот интерпретация исследователя: «Если осмелиться пересказать стихотворение прозой, оно будет выглядеть так: Поглощенный воспоминаниями о тебе, я перестал творить (забыл “голос лиры вдохновенной”), пренебрег слезами влюбленной девушки, перестал ревновать, забыл о славе, не замечаю мрака изгнания, перестал восторгаться красотой светлых мыслей, забыл о мщении»[124]. И все эти признания, по предположению исследователя, обращены к А. П. Керн, недавно покинувшей Тригорское.
Но, во-первых, разлука не была вечной. В письмах к ней Пушкин постоянно рассматривает планы ее приезда, если не в Тригорское, то в Псков, да и тональность этих влюбленно-шутливых писем резко отличается от мрачного драматизма рассматриваемого нами поэтического текста: «… ветреность всегда жестока, и все вы, кружа головы направо и налево, радуетесь, видя, что есть душа, страждущая в вашу честь и славу» (25 июля 1825); «Вы уверены, что я не знаю вашего характера. А какое мне до него дело? очень он мне нужен – разве у хорошеньких женщин должен быть характер? главное – это глаза, зубы, ручки и ножки…» (13 и 14 августа 1825); «Если ваш супруг очень вам надоел, бросьте его, но знаете как? Вы оставляете там всё семейство, берете почтовых лошадей на Остров и приезжаете… куда? в Тригорское? вовсе нет; в Михайловское!» (28 августа 1825).
А во-вторых, ничем он (Пушкин) на самом деле не пренебрег, и вряд ли это нужно доказывать.
И дело, конечно, не в том, придавал ли Пушкин «выражению “принести в жертву” разный смысл»: пушкинское «в жертву» включает в себя едва ли ни все оттенки смыслов, перечисленные нашим оппонентом. Каждое пушкинское слово многозначно. Это отмечалось многими, например, Ю. Н. Тыняновым: «Семантическая система Пушкина делает слово у него “бездной пространства”, по выражению Гоголя.