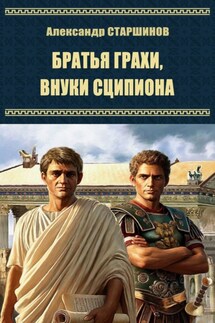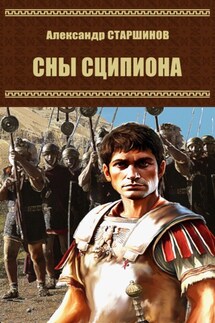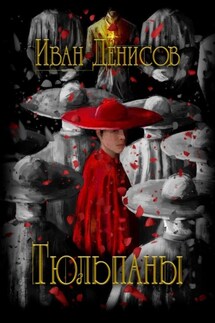Читать онлайн Александр Старшинов - Братья Гракхи, внуки Сципиона
Ночью мне приснилось, что мой брат жив. В эти зимние дни он все время мне снился. В своих снах я видел жаркое лето, и мы с ним идем купаться в наш пруд – самый большой из трех, обложенный камнем. Брат выглядит таким, каким я его видел в последний раз – двадцатилетним красавцем, загорелым атлетом в белой тунике и легком плаще поверх. Я же во сне был таким как сейчас – шестнадцатилетним пареньком, которого отец так и не успел включить в списки граждан и который должен все еще носить детскую тогу, обшитую пурпурной каймой. Внезапно брат поворачивается ко мне, и я вижу, что он мертв – щека порезана, а левая рука почти что обрублена и грубо пришита. Брат что-то хочет сказать мне, но губы его лишь бессильно дергаются. Наконец я различаю едва слышное:
– Деймос и Фобос тебя спасут…
И я просыпаюсь. Выскакиваю из душной спаленки в дневную комнату с большим окном. Из-за холода ставни закрыты. В этой комнате нет стекол в окне. Хватаю толстый шерстяной плащ и выхожу в перистиль. Кусачий зимний холод заставляет меня ежиться. Небо на востоке быстро светлеет.
Брата Публия нет со мной уже долгие пять лет. Но он снится мне, хотя и не каждую ночь. Возвращаюсь в комнату, открываю ставни. На столе лежат восковые таблички, присланные отцом. Письмо привезли вчера.
«…Ни в коем случае не езди в Рим. Там происходят страшные дела. Вступив в Город, Сулла[2] занялся убийствами без суда, как прежде это делал Марий. Безумие и беззаконие царят в Республике. Составлены списки, и в них сотни имен. Людей убивают только за одно имя. Потому что это имя вспомнил Сулла, и оно ему не нравилось. Публия убил Марий. Я не хочу, чтобы тебя убили по приказу Суллы», – написал отец.
Он смертельно рисковал, отправляя письмо – если бы у посланца нашли эти таблички, отец сам бы мог оказаться в списках на бессудную казнь. Но он хотел меня, своего единственного сына, смертельно напугать и тем самым спасти.
Но я не испугался. Почти. Я предпринял ряд действий, которые отец бы явно не одобрил. Я знал, что рискую не только своей жизнью. Но в моей голове Марий и Сулла слились в единое целое. И я хотел, непременно хотел досадить этому двухголовому чудовищу и хоть как-то отомстить за смерть Публия.
Они каждый день появлялись на дорогах. Путники, бредущие в никуда. Их было не спутать ни с кем – взгляд сразу выдавал беглецов среди пеших и конных. Они пробирались в оглядку – неважно, шагали они пешком или ехали на уставших лошадях. И всегда старались нелепо съежиться, сделаться незаметнее, проскользнуть. Все они ехали или шли поодиночке, без спутников, без рабов, без вьючных мулов и поклажи, без жен и детей, сторонясь встречных и даже друг друга. Старые, молодые, подростки. Их никто не окликал, они ни к кому не подходили. Заметив человека, идущего или едущего навстречу, беглец опускал взгляд или отворачивался – только бы не обратить внимания на себя, только бы не окликнули. И еще они постоянно оглядывались. Страх покрывал их невидимым покровом, как мелкая дорожная пыль, страх чуяли псы и облаивали путников на все голоса. Иногда беглецы делали вид, что их заинтересовал вид роскошной гробницы, что помещалась между двух старых пиний у перекрестка. Они останавливались, читали надписи, и ждали, когда дорога опустеет, прятали лица от встречных под капюшонами дорожных плащей.
Камни дороги лихорадочно блестели на зимнем солнце. Прошлогодняя трава, обожженная ночными заморозками, слегка шелестела, прижимаясь к стволам огромных пиний. Все беглецы шли из Рима.
А поскольку они успели добраться до нашего городка, то получили слабую возможность спастись. Я поджидал их на этой дороге после полудня, хотя отец запретил мне выходить из дома в эти дни и уж тем более о чем-то болтать с незнакомцами. Страх смерти пронизал римский мир и запечатал уста. Но молчальники могли точно также погибнуть, как и те, кто не боялся проклинать убийц. Я стоял, держа под мышкою мешок с хлебом и сыром, и еще – с деревянными флягами, которые по-прежнему умело вытачивал наш старый Икар долгими зимними вечерами в своей мастерской. Отец обожал давать рабам мифологические имена или имена царей. В этом была особая насмешка – награждать бессильных прозвищами всемогущих.
Днем, стоя в тени старой гробницы, заброшенной и уже давно не охраняемой, я высматривал очередного беглеца на дороге. Хотя последние дни выдались теплыми, ночами случались короткие сильные дожди, а беглецам приходилось ночевать под открытым небом. Но даже в теплый зимний день ветер колюч и порывист, а сладостный фавоний начнет веять только в феврале. К тому же старики говорили на кухне, что после ночных заморозков можно на днях ожидать снега.
Этим утром первым появился человек лет сорока, с кротко остриженными темными волосами. Прежде гладко выбритый, теперь он оброс темной щетиной, на нем не было даже дорожного плаща, только тога, перевязанная на военный манер, чтобы удобнее было иди, и как я отметил, тога с широкой пурпурной полосой. Сенатор! Я немного выступил вперед. Беглец остановился, глянул настороженно. Вид мальчишки-подростка его успокоил. К тому же одежда деревенская: шерстяная туника с длинными рукавами, да греческий плащ, – на военного точно не похож.
– Чего тебе? У меня ничего нет. Что было – все отдал.
Я заметил светлый след на его правой руке. Прежде он наверняка носил массивный золотой браслет, который теперь исчез. На левой руке на пальце тоже имелся светлый след – видимо, от кольца. Из дома он бежал, не успев прихватить даже дорожный плащ. А кошелек наверняка отдал за возможность покинуть Город.
– У меня хлеб есть. Кора пекла, – проговорил я торопливо, опасаясь, что он уйдет. – Она вкусный хлеб печет, муку просеивает два раза, никакого крошева от жерновов, о наш хлеб зубы никто не ломает. Кора просила даже, чтобы Икар ей клеймо сделал, как для хлеба в дорогой пекарне. Просто так, не на продажу, для славы, любит она показать себя и перед фамилией, и перед гостями.
– Хлеб…
Кажется, путник в сенаторской тоге уловил запах свежего хлеба из моего мешка. Хотел двинуться дальше, но не смог, соблазн оказался неодолимым. Он подошел, хромая. Дорогие кальцеи – не та обувь, в которой стоит отправляться в многомильный пеший поход. Прежде он путешествовал, как любой богач, в удобной спальной повозке, а сотни рабов везли и тащили всякую утварь, как будто из Города в поместье направлялась праздничная процессия. В армии он наверняка служил военным трибуном и, значит, в дальние переходы отправлялся верхом. Мне нравилось вот так по одежде и повадкам оценивать человека, это было своего рода развлечением скучным зимним днем.
Я вытащил из мешка кусок хлеба и сыр, аккуратно завернутый в льняную салфетку. Путник огляделся, вздохнул, уселся на какой-то гранитный обломок. Когда-то это был базис статуи, сама статуя исчезла, то ли украденная, то ли разбитая, а вот базис из темного гранита уцелел. Путник взял у меня хлеб и сыр, положил себе на колени, наслаждаясь самим предвкушением щедрой трапезы. Я протянул ему флягу с разбавленным водой вином. Когда я его разбавлял, вода была горячей, сейчас сделалась едва теплой. Путник сделал большой глоток и стал есть.
– В Городе все еще убивают? – спросил я, внутренне содрогаясь от возбуждения.
Известия, приходившие из Рима, пахли смертью и кровью.
Сенатор кивнул, продолжая неспешно жевать. Видимо, ему хотелось потянуть время. Я был уверен, что идти ему некуда, как и другим беглецам, он просто бежал, в надежде, что со временем жестокость иссякнет. Но вдогонку беглецам скакали центурионы, настигали и убивали. Да и в провинции сторонники диктатора Суллы составляли свои списки, добавляя туда местных богачей, чтобы иметь возможность разграбить их имения и виллы. Алчность, дотянувшись до топора, крушила людские жизни направо и налево. Каждый город отныне превратился в театр смерти.
– Эй, друзья, а почему нет вывески, что здесь таверна! – раздался оклик, от которого мы оба вздрогнули. – Непорядок! Я едва на полном скаку не промчался мимо.
Я глянул на дорогу. К нам подходил путник в толстом сером плаще с капюшоном, какие носят погонщики мулов. В руках у него был посох, на ногах удобные башмаки, похожие на военные калиги, с толстыми подметками, подбитыми гвоздями.
– На полном скаку? – переспросил человек в тоге с пурпурной полосой. – Что-то я не вижу у тебя коня.
– Пегас – тоже конь! А коли человек имеет склонность к написанию стихов и поэм, то, значит, владеет Пегасом, а значит, конь у меня имеется, – отшутился бродяга. – Что тут у нас? Хлеб? Сыр? Запеченные яйца есть?
Незваный товарищ огляделся, приметил рядом барабан от развалившейся колонны, подкатил и уселся рядом. В серой траве порскнула зеленая ящерица, нашедшая себе убежище под каменным обломком.
– Ну, так чем потчуете? Я бы не отказался от каши с салом, но таверна у вас, смотрю, захудалая, подобных яств не подают.
Я протянул ему кусок хлеба и сыр. Достал из мешка вторую флягу.
– Не, питье не надобно. У путника фляга всегда с собой! – он продемонстрировал мне серебряную флягу, откупорил, глотнул. – Фалерн. Настоящее Опимиево вино того года, когда был убит Гай Гракх.
Я разглядывал наглого сотрапезника с интересом. Он тоже наверняка был из беглецов. Во-первых, шел пешком из Города в одиночестве. И припасов в дорогу у него было чуть. Но на тех, прежних, кого я встречал, он походил мало. Во-первых, к путешествию он обстоятельно подготовился: башмаки его были удобны, в руках – посох, прочный и на вид не тяжелый, под плащом – туника из плотной шерсти, а под нею – еще одна, поплоше, к тому же виднелась котомка с ремнем через плечо, у пояса фляга и нож в кожаных ножнах. Он был далеко не молод, то есть лет ему было где-то за шестьдесят, а то и сильно за шестьдесят, но держался он прямо, голубые глаза его смотрели весело, а жилистые руки явно отличались силой. У него были курчавые волосы, в молодости наверняка черные как смоль, а сейчас почти совсем седые, но кое-где черные пряди еще мелькали в густых завитках, да и брови не поседели, оставались совершенно черными, будто насурьмленные.
– Да что ты стоишь, парень, садись с нами, поешь да попей, глотни фалерна, – стал угощать меня седой моими же припасами. – Как тебя звать-то, парень?
– Марк.
– Послушай, Марк, это конечно неприятно, что теперь в Риме на улице могут сграбастать человека, свериться с папирусом, и если твое имя есть в его веселом списке, взять и отрубить тебе голову на Марсовом поле. А предварительно высечь так, что на спине у тебя останется одно голое мясо. А могут быстренько свернуть шею, а потом уже голову отрубить. Слышал про такое?
– Слышал, – я неохотно кивнул.
– Но мы сами устроили себе такое веселье и некого нам больше винить, кроме как самих себя.
– Сами? – фыркнул человек в сенаторской тоге. – А разве не Сулла составил проскрипционные списки без суда и приговора?
– А разве не наши отцы-сенаторы устроили весь этот спектакль? Грызлись, дрались, убивали. Вот диктатор и решил, когда он захватил Город: составлю-ка я списки, кого надобно мне убить. Кого захочу, того и прикончу. И не будет ни суда, ни защиты, ни юристов, ничего. Зачем такие излишества как суд? Просто список подлежащих казни. А казнить может любой – увидит, узнает, убьет, даже на палачей не нужны расходы. Утешай себя тем, что после смерти не будет уже никакого зла. Как писал Эпихарм: «Мертвым быть ничуть не страшно, умирать куда страшней».