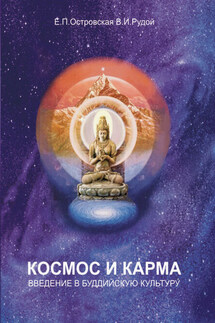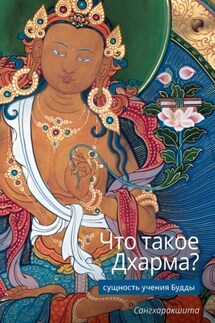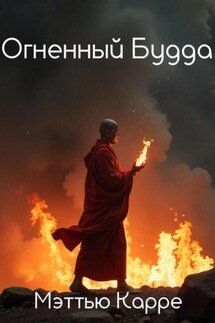Буддийские общины Санкт-Петербурга - страница 14
Возвращаясь к работам М. Баумана и Д. Кантовски, важно отметить, что исследование Баумана интересно прежде всего тем, что в нем представлены история проникновения буддизма в Германию и становления европейских общин буддистов-мирян ФРГ, религиозно-идеологическая география этих общин, дан социально-демографический анализ их состава, вскрыты мотивы обращения немцев в буддизм. Основной вывод, к которому приходит Бауман, состоит в том, что буддизм сегодня сделался одной из конфессий современной Германии.
Особенность работ Кантовски состоит в его стремлении проследить взаимосвязь участия в таких значимых общественных движениях, как экологизм, феминизм, экуменизм, со вступлением в буддийские сообщества. В отличие от Заальфранк, Кантовски считает, что конвертитские буддийские общины не представляют собой замкнутую субкультуру, поскольку члены подобных сообществ интегрированы в идеологическую и общественно-политическую жизнь Германии. И здесь надо сказать еще несколько слов о работах Кантовски.
Первичное знакомство с его монографиями и статьями всегда оставляет странное впечатление, как будто ученый использует свой статус для проповеди. Однако ни в предисловиях, ни во введениях никогда не оговаривалась религиозная принадлежность автора. И только годы спустя, когда Кантовски завершил свою преподавательскую деятельность и научную карьеру, он публично заявил о своей принадлежности к буддизму. С социологической точки зрения, этот факт весьма примечателен. Публичное признание известного ученого повлекло за собой обширную дискуссию в научном сообществе начала 2000-х гг. Анализ мнений и суждений по этой «скандальной» теме позволяет говорить о высокой степени консерватизма немецкой академической среды, совсем не допускающей возможности «подобных выходок» для тех, кто делает карьеру и желает добиться успеха.
Проведенное нами в 1997–1998 гг. исследование было нацелено на анализ принципиально новой формы функционирования буддизма, новой среды его воспроизведения – религиозной жизни буддистов европейского происхождения в культурной зоне, нетрадиционной для буддизма (а именно в Санкт-Петербурге), причем буддистов, не стремящихся к интеграции в традиционные буддийские социальные институты.
В отечественной специальной литературе 1990-х гг. работы, посвященные социологическому и культурно-антропологическому анализу мирских буддийских сообществ, отсутствовали. Эта проблема отчасти затрагивалась в уже упомянутом нами исследовании Н. Л. Жуковской «Возрождение буддизма в Бурятии: проблемы и перспективы».
Серьезное методологическое затруднение возникло сразу на этапе пилотажного исследования. Достаточно быстро стало понятно, что необходимы отчетливые критерии для отнесения сообщества к религиозному типу. Применительно к нашему объекту это означало необходимость разработать критерии, которые будут положены в основу отбора кейсов для намеченного исследования буддийских сообществ Санкт-Петербурга. И здесь у неискушенного исследователя сразу возникнет недоумение: а в чем, собственно, затруднение? Однако, если основательно вдуматься в суть проблемы, в том виде, в каком она представала в те годы, то все встанет на свои места.
В начале 1990-х годов ни о каком четком социологическом определении понятия «религиозное сообщество» или «религиозная организация» и речи быть не могло. Академическая среда поспешно и бестолково размежевывалась с марксизмом и панически опасалась любых нововведений.